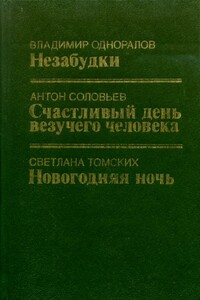Из-за угла вышел животом вперед Шумилкин, осмотрелся с видом человека, которому нечего делать, некуда пойти, сказал что-то ребятишкам, играющим с собакой, и направился к дому Тимофея. Ребятишки что-то закричали ему вслед, строили рожицы. Он не обернулся.
Тимофей отошел от окна, не хотел, чтобы видел Шумилкин, как он наблюдает за ним. Сел за стол, развернул газету, прочитанную еще неделю назад. Свежей под рукой не оказалось.
Шумилкин зашел, заняв своим грузным телом весь дверной проем, стукнул лохматой собачьей шапкой о колено, словно отряхнул с нее что-то.
— Здоровы бывайте. Гостей, похоже, не ждали?
— Проходи, проходи, — поднялся навстречу Тимофей. — Гостей больше — хозяину веселее… Знать, не забывают…
Шумилкин повесил полушубок на вешалку, и по нему рукой похлопал, что-то невидимое, а, может, несуществующее стряхнул, как и с шапки. И Тимофей уловил, что тот пришел по делу (по какому — понятно), но с чего начать разговор — не знает, а оттого и смущается, оттого и не знает, чем руки занять. Оно и понятно, что же за разговор получится у них без доказательств. Опять одни угрозы, обещания поймать с поличным — толку-то от них…
— Присаживайся, — еще раз гостеприимно повторил Тимофей, радуясь своему умению хорошо играть уже привычную роль. — Старуха, сооруди чего-нибудь выпить, пока Володьки нету. Да закусить чего.
Табуретка, легонькая, беленькая, в магазине купленная, заскрипела под восьмипудовым инспектором. Такая мебель не для солидных людей, привыкших больше к скамьям из надежных толстых досок, какие стоят в каждом охотничьем зимовье, в каждой избушке на пути в лесу.
— Стареешь, значит, братка… — первым начал инспектор, и Тимофей чуть насторожился, прикинул на всякий случай в уме — не вышло ли где промашки.
— Старею, эт ты прав. Годы-то идут. Сам, небось, спиной чуешь, как живот носить. Как, а? Идут годы?
— Идут-идут… Раньше, бывало, втройне ты добывал, а вот сдавал только норму… Бывало?
— А кто ж его знает. Может, и бывало, может, и нет… Не помню уже. Старая память, она, как решето, сколько воды не лей, все утечет.
Они почти одногодки. Инспектор всем говорил при случае, что последний сезон дотягивает, и баста, все… И сейчас каждый из них знал о другом много такого, о чем не говорят вслух, не желая прослыть трепачом, клеветником, хотя сами они были уверены в собственной правоте. Они могли бы заставить друг друга покраснеть, если бы умели краснеть их задубевшие на вечном морозе и ветру лица. Инспекторское мнение понятно. Но и Тимофей держал про запас историю, как этот же инспектор вместе с приезжим городским начальством побраконьерничал малость. Следы об этом ясно рассказали. Но что толку, если пустить такой слух. Кто-то, может, и докопается, докажет, если захочет, свидетелей найдет, а скорее всего стоило попытать самого Шумилкина, на душу ему надавить, так и сам сознается. Видел тогда Тимофей, как маялся инспектор, переживал. Ну и что? Снимут этого, пришлют другого или из местных кого сунут. Может, куда как худшего человека.
— Бывало, чего скрывать. Дело давнее… Рассказать-то не можешь, что ли — куда шкуры сбывал? Интересно, однако… Тебе-то что, а мне, может быть, и сгодится когда. Мало ли, может, самому доведется промыслом на старость лет заняться…
— Да не помню уж — откровенно издевался Тимофей и чувствовал, что Шумилкин, внешне принимая его полушутливый тон, внутри заводится, как пружина в будильнике, того и гляди — зазвенит.
— Бывало, своего не упустишь…
— А чего ж упускать, раз свое… Упустишь ты, так другие не постесняются, подберут и даже не задумаются, чье это.
Шумилкин с каждым словом мрачнел глазами, хотя голоса не менял.
— Вот-вот, твоя философия, я и не думал, что ты философ доморощенный. Скоро книжки писать начнешь.
— О чем… — наивно улыбнулся Тимофей.
— Об этом же. Как своего не упускать. Ты ж в этом деле профессор. И теперь еще тебе не сидится. А ведь пора бы… Ой, пора бы и отдохнуть на старость лет.
— Так, кажись, только тем и занимаюсь. Устал уж отдыхать-то. Ты вот на пенсию пойдешь — поймешь, что эт за маета такая. Тогда и говорить по-другому станешь.