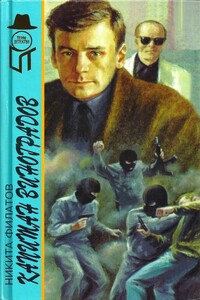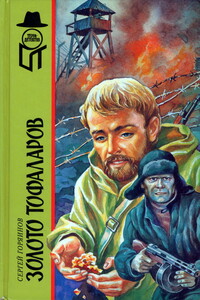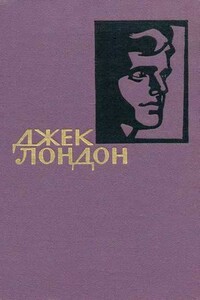— Но что можно сделать, как ты думаешь?
— Ничего!
— Я тоже люблю тебя…
— Не стоит об этом говорить.
— Нет, Мов, стоит. Необходимо назвать вещи своими именами, чтобы стало ясно их истинное значение. Наши отношения с Люсией не могут служить препятствием. В конце концов, я не любил ее ни единой секунды. Ничто не может нам помешать, как только закончатся съемки, смыться отсюда, не спрашивая ее согласия!
— Я тебе уже говорила, она обязательно отомстит.
— Каким образом? Начнет качать свои материнские права, от которых сама же отказалась?
Мов пожала плечами.
— Есть еще одна вещь.
— Какая?
— А ты не догадываешься?
Мы сами не заметили, как перешли на «ты». То, что произошло, было абсолютно невинным. Пересечение границы тоже может оказаться невинным делом, даже если этот факт имеет решающее значение.
О моей выходке никто не вспоминал. Люсия вела себя внешне так, словно ничего не произошло. Но я чувствовал, что ее отношение ко мне изменилось. Она обращалась со мной, как с собакой, которую дрессируют. Мне приходилось выносить сухой высокомерный тон, бесконечные придирки, как будто она била меня линейкой, наставляя на путь истинный. Я превратился в мальчика для битья. Никогда, даже будучи статистом, я не испытывал подобного унижения.
Работа над фильмом, проходившая в последние дни в атмосфере зверинца, завершилась. Во мне практически отпала нужда. Люсия вплотную занялась монтажом и микшированием «Добычи». Она заказала очень модному композитору весьма специфическую музыку, которая должна была создавать контраст с немногословным действием. По мнению Люсии, лучше всего для этого подходили ударные и трубы, звучащие в синкопическом ритме.
Наступившее затишье стало для меня настоящими каникулами, которые я проводил в обществе Мов. Теплые деньки близились к концу. Стоял сентябрь, и в изумрудной листве уже мелькала желтая гниль осени. В воздухе как будто чувствовался последний зов умирающей природы.
Наша невинная юность завершалась на берегах Сены, где до сих пор бродят тени Мопассана и Золя… Мы катались на лодке или гуляли по осеннему лесу. Говорили мало, в основном о пустяках. Не было нужды выражать нашу любовь словами или действиями. Я почти никогда не целовал Мов, а если это случалось, то ограничивался лишь легким, целомудренным прикосновением к ее щеке. У меня недоставало смелости говорить с ней о будущем… Я боялся говорить с ней и о прошлом. Мы словно были заключены в скобки, и наша любовь оставалась без движения, как водяная лилия на поверхности болота.
Но однажды вечером, возвращаясь домой, я все-таки решился.
— Мов, теперь я абсолютно уверен, что хочу, чтобы ты была моей женой.
— Я тоже, Морис.
— Мы созданы друг для друга.
— Я это знаю.
— Рядом с тобой я чувствую себя совершенно счастливым.
— Я тоже.
— Если нас разлучат, я… я умру!
— Я умру вместе с тобой, Морис!
— Итак, пора сказать об этом Люсии!
Она задумалась. Я в напряжении смотрел на ее прекрасные, с тонкими длинными пальцами руки пианистки, сжимавшие руль.
— Да, ты прав, пора.
— Когда?
— По возвращении.
Всю дорогу мы не проронили ни звука: принятое решение ужасало своей неотвратимостью, но никто из нас не мог бы признаться в этом. Мне даже кажется, что мы оба тайно надеялись, что Люсии не окажется дома. Но наши надежды не оправдались.
* * *
Феликс предупредил нас, что «мадам» работает в своем кабинете и просила ее не беспокоить. Решив, что этот запрет на нас не распространяется, мы направились в небольшую комнату, служившую ей кабинетом. Его стены были сплошь увешаны фотографиями знаменитых людей с лестными посвящениями мадам Меррер. Люсия едва обратила внимание на наше появление. Она установила у себя кинопроектор и была погружена в просмотр киноленты. Рядом со столом стояли корзины, куда складывалась просмотренная пленка. Совсем как в настоящей лаборатории. Кабинет освещался одной маленькой лампочкой, висевшей в противоположном углу от двери. Люсия водрузила на нос большие квадратные очки в золотой оправе, делавшие ее похожей на американскую учительницу, Заметив нас, она поспешила снять их и выключила аппарат.