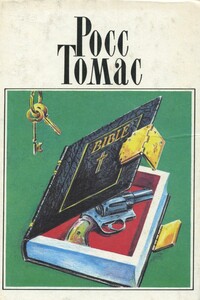Она разворачивается к окну, глаза прикованы к мерцающему свету, льющемуся через тонкие шторы. Коричневый. Чёрный. Коричневый. Она всегда отворачивалась, когда говорила правду. Будто её глазам невыносимо это зрелище.
— …я пытаюсь спасти две жизни. Кана Чжу и твою собственную, Сунь.
— Министр вовлечён в дело, которое я расследую?
Она не отвечает. Губы у неё, как у ребёнка, стиснуты, закрыты.
— Он должен понять, что любое участие в таких убийствах будет означать смертный приговор человеку, стоящему на таком уровне власти, как Кан Чжу.
Она шепчет эти слова в бамбуковую штору, в окно, которое она закрывает. Дрожь, трепет, удары матово-серого дерева ловят её дыхание… тающее сразу за пределами её губ.
— Он уже заработал себе смертный приговор.
Она идёт к дверям, папка до сих пор стиснута на груди. Пиао идёт ей наперерез, рукой перегораживая коридор, другая рука придерживает полотенце на талии. Его жена, хоть теперь от неё и пахнет богатым функционером.
— Дай мне папку. Я не буду впутывать министра в расследование. Не ради того, чтобы спасти задницу Кан Чжу, но чтобы подарить покой жертвам и их семьям.
Призрак улыбки пробегает по уголкам бутона её губ.
— И не ради того, чтобы спасти собственную жизнь, а, Сунь?
— Не знаю, может быть, конечно. Может быть, увидев тебя, я понял, насколько уже умер. И мне это совсем не по нраву.
Она разжимает руки, он вынимает папку. Она идёт к двери, открывает её. Рука её ложится к нему в ладонь, там чувствуется металл.
— Ключ от твоей двери. Мне он больше не нужен.
Он смотрит, как она скользит вниз по лестнице. Через улицу, к Красному Флагу, перед ней открывают дверь. Смотрит, как он уезжает прочь. Дождь стекает по чёрной пустыне его крыши. Ни разу она не оглядывается. И только когда лимузин исчезает из виду, Пиао распахивает окна, чтобы проветрить квартиру от её духов, запаха семидесятилетнего рта, прижатого к ней… теперь он понимает, что не желает ей счастливо доносить ребёнка. Он закрывает окна, дрожит от холода, который угнездился внутри него. Слёзы режут его лицо на части с мощностью сварочного аппарата. И с ними повторяются слова, как бесконечная река боли.
— Блядь, это должен был быть мой ребёнок… блядь, это должен был быть мой ребёнок.
Он сидит так ещё час, до сих пор обернувшись полотенцем. Опустошённый, будто из него вытащили штекер. Не в состоянии двинуться. Папка лежит на коленях. Ключ сжат в руке, вонзается в плоть, белую от успокоительной боли. Пока она была здесь, он сохранял спокойствие. Только теперь его смыла цунами эмоций. Наконец, он приходит в движение, быстро, решительно. Кидает папку на кровать, полотенце — на пол. Вода в душе холодна, как прощание. Он бреется, сдобрив щетину мылом. Трёт лицо, тело, с излишней силой. Смотрит, как пена бежит вниз по ногам, в облезлую дырку в ванне. И вместе с ней смывается… она. Его жена.
Он одевается, почти уже натянул форму, но вспоминает — реальность больно толкает его — что он по-прежнему отстранён от работы в Бюро. На завтрак у него четыре сигареты и Цинтао. Он читает папку, употребляя попутно ещё две бутылки. Сто четыре въезда и выезда в Китайскую Народную Республику за последние пять лет. Хейвен — занятой человек с предрасположенностью к самолётной еде и очередям к терминалам, это не считая золотых зажигалок. Палец старшего следователя ведёт по компьютерным данным. Иероглифы… время, даты. Матричные точки складываются в бессмысленную информацию… конструкции, возведённые на подозрительных чёрных очках. Его внимание скользит к верху страницы; отпечаток темнее, точки больше.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО
Это название он прежде встречал лишь один раз. К западу от Пекина, когда ехал к Ароматным Холмам во время недолгой командировки в Городское отделение БОБ в Бэйчицзы Дацзе. Старый коллега показал сигаретой на серое здание без опознавательных знаков, стоящее рядом со старым Летним Дворцом.
— Институт международных отношений…
С этими словами он сплюнул крошку табака, прилипшую к губе. Она попала на лобовое стекло изнутри. Пиао помнит, что никак не мог отвести от неё взгляд.