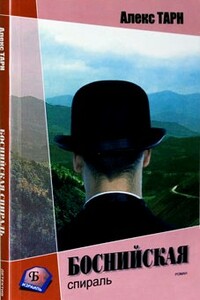С площадки посередине сквера слышалось бренчание гитары. Человек пять-шесть, ссутулившись, топтались вокруг длинноволосого гитариста. По кругу шла бутылка, замаскированная по местному обычаю мятым бумажным пакетом. Мужик пел, остальные подпевали: «Каково тебе без дома, в одиночестве? Каково тебе, а? Каково чувствовать себя катящимся камнем?» Сладкие сикстиз. Хиппи. Шестидесятые годы. «Люби, а не воюй». Боб Дилан. Вудсток-шмудсток. Ньюпорт-шмупорт. Неужели такое еще поют на Вашингтон-сквер? Только подойдя поближе, я разглядела морщины и седину: шестидесятость характеризовала не только репертуар, но и возраст тусовщиков.
Шестидесятилетняя девушка в расшитом джинсовом костюмчике и ковбойской шляпе, с бутылкой в скрюченной артритом руке, с джойнтом в искусственных зубах — что ты здесь делаешь, старая дура, вместе со своими слюнявыми друзьями? Это вы-то перекати-камни? Если вы и камни, то краеугольные, неподъемные, заслоняющие дорогу всему живому, пульсирующему, настоящему, не похожему на застывшую догму ваших сусальных сказок. Это вы-то бездомны? Как бы не так! Все вы давно уже обросли квартирами, кафедрами, деньгами… мерзкое, лживое, предательское отродье!
Старуха поймала мой взгляд и, улыбаясь, протянула пакет с бутылкой — давай, мол, герла, гет тугеза. Я с трудом подавила желание съездить ей по зубам. Прочь отсюда! Скорее! Мне вдруг показалось, что в сквере разом кончился воздух, как будто проклятые сикстиз затолкали в свой мятый бумажный пакет не только бутылку, но и весь окрестный кислород, и теперь монопольно сосали его, не оставив остальным даже на маленький вздох-глоточек. Не разбирая дороги, я бросилась вон.
К счастью, сильверадо действительно оказался невдалеке. Я забралась в машину, захлопнула и заблокировала дверцу, включила двигатель, вжала лицо в ладони, отгородилась от окружившей, осадившей, доставшей меня фальши и пакости. Да что ж это такое, Господи! Все одно к одному, вся эта жизнь, весь этот чертов вечер, отразивший ее, кривую, в своем столь же кривом зеркале! Шустряк-механик, мелкий хитрец, слупивший двойную цену… и не в деньгах тут дело, а во вранье, в мерзком вранье, которого даже не стыдятся, настолько оно привычно, общепринято, как вонь в туалетных кабинках. Автомобильный поток, поначалу прикидывающийся сильным и нескончаемым, как все жизненные потоки, а уже через пару часов выкидывающий тебя на обочину, под ржавые решетки, за глухие стены. Секта надутых дураков, воображающих себя проникшими в глубины мировой души, а на деле — всего лишь построивших дополнительный ряд нелепых и наивных декораций. Чудовищные шестидесятники, приветливо ностальгирующие на обломках миллионов жизней, разрушенных их идиотским враньем и безответственностью.
И — как я могла такое забыть! — эти ужасные шахматисты, как символ всего происходящего со мной, с городом, с миром: безглазая игра без правил и без времени, пока не придет полицейский и не выгонит всех из этого скверного сквера! К черту, к черту! Зачем? Почему? Я всего-то и хотела потанцевать, просто потанцевать…
Телефонная будка в нескольких метрах от машины расплывалась в слезах — моих и дождя. Пора звонить. Ты ведь этого хотела, правда? Чего уж там отвлекаться на какого-то механика, на джинсовую старуху, на обкуренных шахматистов… ты ведь приехала сюда ради него, разве не так? Разве не сходится в нем, как фокусе линзы, и хамство, и фальшь, и вранье, и удушающая пошлость? Сходится, как нельзя лучше сходится. Ну вот… тогда давай, вперед…
Я вытерла слезы. Я вышла из машины. Я сняла трубку, накормила таксофон квотерами и набрала номер.
— Алло… кто это?
Голос был более чем сонный. Я представила себе, как бедняга, сев в постели, трет глаза и трясет головой, гадая, какая сволочь может звонить ему в такой час.
— Помнится, вы хотели со мной потанцевать, — произнесла я самым ледяным тоном, на какой только была способна. — Если предложение еще в силе, то я готова.
На другом конце провода наступило обалделое молчание. Думаю, он щипал себя за руку или смотрел в зеркало на свою опухшую физиономию, не в силах поверить, что происходящее реально.