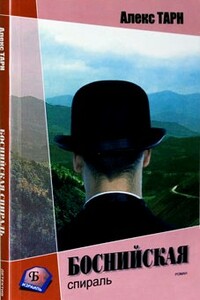Оказалось, что может. После той вечеринки я разделилась на три отчетливо разные части. Первая, самая большая, называлась счастье и помещалась в районе груди. По всем параметрам она напоминала воздушный шар. По всем. Например, счастье распирало меня, как воздух распирает воздушный шар. А еще мне казалось, что я постоянно лечу — опять же, как на воздушном шаре, понимаете? Не на самолете, внутри гудящей моторами железяки, и даже не как птица, на крыльях, которыми употеешь размахивать, а именно на шаре — в тишине, без всяких усилий и шума, одна посреди всего неба, среди молчания и поскрипывающих шершавых веревок. На воздушном шаре ты можешь лететь, даже когда сидишь, или лежишь, или ходишь. И тут важно еще, что он именно воздушный, потому что счастье — это прежде всего воздух, много воздуха, очень много воздуха: ведь полет возможен только тогда, когда он есть, воздух.
Вторая часть — удивление — находилась в голове. Я была поражена тем, что такое вообще возможно. Я все время думала об этом. Я оглядывалась вокруг и не видела никого, кто носил бы в груди что-то, хоть отдаленно напоминающее мое счастье. Не думаю, что я ошибалась — ну разве можно скрыть от постороннего глаза такую махину, как воздушный шар? Я ощущала себя настоящей инопланетянкой и оттого впервые в жизни испытывала трудности в общении с другими: ну о чем могут беседовать жаворонок и землеройка? Хотя нет, они как раз могут найти общую тему — ведь даже жаворонок время от времени, устав, опускается на землю.
Но в том-то и дело, что я не опускалась: я постоянно жила в воздухе, меня носило поверху мое счастье, мой воздушный шар, и мне не приходилось работать крыльями. Ну как было всему этому не удивиться? Не спросить — почему именно я? Почему не другие, знакомые и незнакомые? Почему не натуральная блонда Светка, которая объективно превосходит по ряду показателей не только меня, но и, например, толстогубую раскрученную куклу Анжелину Джоли? Почему не сама Анжелина Джоли — ведь она так раскручена?! Почему?
Мой третий, наименее приятный кусок, помещался в животе. Я ужасно, до колик, до тошноты, боялась, что все это закончится. Ужасно. Наверное, это и называется Страхом. Не могу сказать, что я ничего не боялась раньше. Конечно, боялась. Боялась темноты и пауков, и сунуть руку под куст, и смотреть на воду с моста. Боялась контрольной, зубного врача, боялась потеряться в незнакомом месте, боялась смерти — не своей, а родительской, потому что свою смерть я не могла представить вовсе… Я много чего боялась. Но это была всего лишь боязнь, понимаете? Не страх, а боязнь: что-то маленькое, детское, понарошечное, как кефирчик для ребенка.
А тут был самый настоящий страх. Страх кончины. Наверное, только тогда я впервые и поняла, что такое смерть — когда влюбилась. Да. Вот я и произнесла это слово — любовь. Любовь. Летучая смесь счастья, удивления и страха. Рани, Рани, Рани. Мой олень, мой тайманский принц.
Мы сидели на бортике бассейна, болтали ногами и языком, смеялись. Мы говорили обо всем и, странное дело, это походило не на разговор, а на точечную ликвидацию, как ракетой — по машине какого-нибудь хамасника в Газе. Все, о чем мы только ни заводили разговор, немедленно исчезало, испарялось без следа.
— Интересно, Капод косой или подкуренный? — говорил Рани.
— Блин! — отвечала я. — Я как раз об этом думала, когда ты подошел.
— Не иначе как родство душ! — делал он напрашивающийся ход.
— Не подъезжай так быстро, вылетишь в кювет, — надменно отвечала я, обмирая от макушки до самых пяток.
Мы оба снова смотрели в сторону Капода, но на его месте уже клубилось облако, косоглазое игловолосое облако, мелькающее потными плечами.
— Слушай, а какой объем бюста у твоей подруги? — спрашивал Рани.
— Сто, — мрачно хмыкала я, прибавляя совсем немного.
— Сантиметров или дюймов? — щурился он.
— Процентов! — припечатывала я, и мы оба покатывались со смеху, а когда поднимали глаза, то там, где только что покачивалась Светка в обнимку со своим очередным летчиком, уже топталось неясная бесформенная тень, тень Светки и летчика, и остальных танцующих.