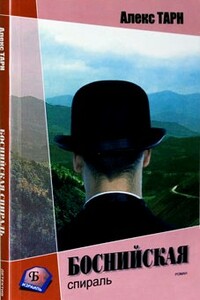Но всему есть предел, не так ли?.. в том числе и смирению; взять хоть, например, эти мои записки — разве они продиктованы смирением?.. конечно, нет, скорее, наоборот — смиренный Гиршуни не должен был бы писать их вообще, но именно постольку, поскольку всему есть предел, то — вот и они, записки: честно говоря, мне и самому странно ощущать, сколько всего там накопилось и как оно из меня выплескивается, словно запруду прорвало… а все почему?.. гм, не помню уже, надо бы заглянуть в начало… ах, да!.. хотел-то я всего-навсего рассказать о сне, необычном не столько своим содержанием, сколько своей редкостью: ведь я почти не вижу снов, считанные разы за всю жизнь — ну как тут не подумать, что я обделен даже в этом, изгнан даже оттуда — эта мысль прямо-таки напрашивается, разве не так?.. вот она и напросилась, да еще так длинно и нудно, что я даже забыл, с чего начинал… хорошо, что в написанное всегда можно заглянуть, перевернуть страницы, несколько раз нажать на клавишу PageUp, а то и на Ctrl-Home, и читай себе, а там написано: «Неужели меня изгнали и оттуда, из снов?» — и далее по тексту.
Мне снилось, что мы идем с Машей по снегу, по тяжелому глубокому снегу, мы вдвоем, и вокруг нет никого и ничего, только снег да снег кругом, и никакой «путь далек» не лежит даже приблизительно, даже если очень тщательно всмотреться в ту или другую сторону — ни пути, ни замерзающих ямщиков, ни даже неба — настолько его много, этого снега, буквально повсюду, куда ни глянь, даже вверху: снег да снег, снег да снег, один только снег да еще — наши ноги, которые приходится с трудным усилием вытаскивать из этой мерзлой и в то же время какой-то липкой, болотной глубины: тянешь, и тянешь, и тянешь — и, главное, зачем? — для того лишь, чтобы тут же снова погрузить их туда? — да, для того лишь, и это действие настолько бессмысленно, что даже не хочется о нем думать, а мы и не думаем, мы просто идем и идем, трудно и медленно, как, видимо, ходят только во сне, потому что наяву сердце не выдержало бы и десятка таких тяжелых шагов, и я думаю: как хорошо, что Маша — сзади: она хотя бы видит мою спину, в то время как перед моими глазами нет ничего, кроме снега и собственных ног, ныряющих, как шатуны, по колено в белую топкую трясину, и тут она говорит: «Арик, — так она зовет меня, „Арик“… — Арик, я больше не могу…» — а я отвечаю, не оборачиваясь: «Возьми батарейку,» — и снова вытаскиваю ногу, и снова ставлю ее в зыбкое белое болото, привычно надеясь и радуясь тому, что проваливаюсь только по колено, а не по пояс, что, впрочем, уже случалось, и не раз… шаг, и еще шаг, и еще… и тут я вдруг понимаю, что ее нету сзади, и оглядываюсь, и вижу, что Маша уже не идет, а сидит, вернее, полулежит на снегу, глядя на меня виноватыми испуганными глазами, и как-то странно нагребает на себя снег, словно хочет закопаться в сугроб и таким образом спрятаться — от кого? — от меня?
— Маша, — говорю я. — Что случилось, Маша? Почему?
— Я больше не могу, — повторяет она. — Извини меня, пожалуйста.
— Опять жалеешь батарейки? — спрашиваю я с досадой, потому что она и в самом деле вечно жалеет батарейки, в смысле — жалеет на себя, для себя, а она ведь не может без батареек, да и кто смог бы без батареек в таком снегу и на таком холоде?
— Возьми немедленно свежую батарейку, — говорю я. — У нас их много.
Понятия не имею, откуда вдруг взялись во сне эти батарейки — чушь какая-то, правда? — человек ведь не настольные часы и не кинокамера, чтобы зависеть от батареек… хотя нужно признать, что агония живого существа очень похожа на судорожное подергивание секундной стрелки часов непосредственно перед тем, как они останавливаются; но на этом аналогия заканчивается: ведь живой организм распадается, безвозвратно исчезает, а часы остаются жить даже без смены батарейки: достаточно посмотреть, с какой надеждой они подготавливаются к моменту, когда бегущее по кругу время дважды в сутки, строго по расписанию, равняется с ними, равняется на них, с каким усилием они пытаются зацепиться за него, пристроиться к нему, ухватиться за его потную линялую майку с неразличимым номером на спине, как отчаянно глядят они вслед мелькающим подошвам его кроссовок… отчаянно, и в то же время — время! — спокойно, потому что уже сейчас можно начинать готовиться к следующей встрече, которая неизбежно состоится ровно через двенадцать часов без нескольких секунд; ведь так, правда?.. так?.. ну как же тогда можно говорить о смерти применительно к стоящим часам? — да они живее всех живых, живее идущих!.. но горе живому существу, лишившемуся батарейки!.. кстати, не такая уж это невероятная ситуация: говорят, что есть какие-то приборы для сердца, они наверняка работают на батарейках, так что сон не так уж и глуп; вот только у Маши никогда не было проблем с сердцем, у нее вообще никогда не было никаких проблем, ни проблем, ни слабостей — ну разве что страсть к сладкому утреннему сну… зачем же ей тогда батарейки? — не знаю, честное слово, не знаю, но там, во сне, в этом ужасном болотном снегу, я был абсолютно уверен, что без батареек она умрет, не продержится и минуты, тем более — на таком морозе, хотя угроза эта была чисто гипотетической, потому что батареек у нас было навалом, огромное количество, и я знал это точно — обычных пальчиковых батареек, отчего-то называемых словом «ААА», больше похожим на подзаголовок картины «Крик» одного норвежского художника, чем на название сорта батареек; я специально запасся ими еще до выхода, завернул в десяток пакетиков и разложил на столе, чтобы Маша могла распихать их по разным карманам, так, чтобы с гарантией: пусть даже вывалится из одного кармана, но в других останется — предусмотрительно, не правда ли?.. так что теперь она и должна-то была всего-навсего сунуть руку в один из своих многочисленных карманов и нащупать пакет, а в нем — батарейки, сменить и продолжить путь… куда?.. зачем?.. — неважно, там разберемся, главное — продолжить, и потому я никак не мог понять ее странного поведения и сердился, пока еще не сильно, но с потенциалом настоящего гнева, ведь ситуация совсем не располагала к странностям, к непонятной, ввиду огромного батарейного запаса, машиной скупости, которая, впрочем, не представляет для меня новости, хотя нет, тут я грешу против истины: это машино качество никак не может именоваться скупостью, потому что скупость обычно направлена на весь мир, скупому всегда жалко, вне зависимости от того, что нужно дать и кому — скупой просто органически не может «дать», вот и все; у Маши же скупость распространяется только на нее саму, а в отношении всего остального мира она удивительно щедра, готова отдать последнее, даже без просьбы, и всех жалеет — и бедных, и богатых — всех, кроме себя; может быть, этим и объясняется ее удивительная неспособность взять себе хоть что-нибудь, хоть шаль, хоть што, хоть полушалок, не говоря уже об этих треклятых батарейках.