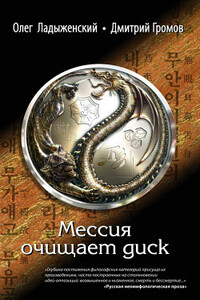— Ну, Бассарей! — злобно прошипел то ли Гермий, то ли змеи с его жезла — и Лукавого не стало.
Только стеклянные нити поплыли в горячем воздухе, да еще переглянулись восхищенно сатиры с бассаридами — никто не умел носиться по Дромосам стремительней Гермия-Психопомпа.
— Жаловаться полетел, — с некоторой бравадой, на самом деле скрывавшей испуг, буркнул Дионис. — Слышь, Пан, если этот летун и впрямь папу притащит — ты хоть подтверди, что я не со зла! Шутил, дескать!.. И дошутился.
Что собирался ответить насупившийся Пан, так и осталось загадкой — потому что почти сразу же Дромос вновь открылся, пропуская Гермия обратно на поляну; а следом за Лукавым…
— Конец свет-та! — забыв о приличиях, ахнул прижатый к древнему буку сатириск Фороней. — Х-хирон… покинул Пелион! Все, допился Форонейчик!
— А-хой, вижу горы, жил псом, умер…
Кентавру хватило одного взгляда, брошенного в сторону поющего Алкида.
— Твоя работа, Бромий? — негромко спросил Хирон у побагровевшего Диониса.
— Ну, — только и ответил веселый бог, ужасно не любивший, когда его называли Бромием — Шумным.
Или попросту Горлохватом.
— Не «ну», а твоя, — подытожил кентавр, направляясь к близнецам; и случилось чудо: Дионис промолчал.
Ификл с нескрываемой надеждой смотрел на приближающегося Хирона, и кентавр ласково пригладил волосы мальчишки, чуткими пальцами раздвигая жесткие завитки, прежде чем согнуть передние ноги и, поджав бабки под себя, опуститься рядом с Алкидом — так, как опускаются в шутовском поклоне ученые пентесилейские лошадки.
Только вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову засмеяться при виде коленопреклоненного кентавра.
— Воды! — приказал Хирон. — Побольше и похолодней! Кто знает, где ближайший ручей?!
Один из сатиров вихрем сорвался с места, подхватив полупустой бурдюк, и умчался прямо сквозь кустарник, проламывая сплетение ветвей не хуже раненого вепря.
— Он пьян, — Хирон говорил тихо, не снимая ладони со лба Алкида (тот перестал петь и теперь бубнил что-то невнятное), обращаясь только к Гермию, вставшему рядом, и взволнованному Ификлу. — Он сильно пьян… это почти безумие! Ах я дурак — ему же нельзя пить! Старый гнедой дурак… ведь должен же был предупредить Диониса! Ификл, пожалуйста, ради меня — сосредоточься! Что он сейчас видит? Что?! Это очень важно…
— Я попробую. — Ификл закрыл глаза, потом отчего-то скривился, смешно морща нос, как если бы ожидал удара, а тот, кто собирался его нанести, все медлил; и Гермий вдруг понял, каких нечеловеческих усилий стоит мальчишке вот так, добровольно, пытаться заглянуть за грань безумия, вместо того чтобы закричать и броситься прочь от чудовищ помраченного рассудка.
— А-хой, вижу горы, Киферонские вершины… ох, все кругом идет! А-хой, рвите глотку…
Пел Ификл — белея лицом, катая на скулах упрямые мужские желваки, пел тем же сиплым надтреснутым голосом, которым еще недавно пел пьяный Алкид, пел, сжимая кулаки все плотнее, словно желая превратить их в костяные копыта; мышцы его плотно сбитого тела корежила судорога, делая из подростка маленького Атланта, впервые взвалившего на плечи небо — только это небо тринадцатилетний Ификл Амфитриад взваливал на себя далеко не впервые, небо с богами безумия, одно на двоих, небо, за щитом которого (возможно!) прятался нездешний и непонятный Единый, скалясь целым мирозданием.
Последняя мысль принадлежала Гермию.
Алкид внезапно обмяк, схватившись за живот, его стошнило прямо на траву, под ноги брату, и Лукавый вдруг понял, глядя, как Алкида рвет черной желчью, что сейчас братья похожи как никогда — немыслимо, невероятно похожи… один — окаменев в почти божественном усилии, другой — корчась в почти чудовищной муке; Ификл и Алкид, Олимп и Тартар, две жертвы одного алтаря, две раны одного тела, несчастные мальчишки, зачатые на перекрестке слишком многих помыслов, надежд и великих целей.
«Жизнь и смерть, — еще успел подумать Гермий, — что это значит для нас, если мы зовем себя богами и утверждаем, что властны над первой и неуязвимы для последней; и что это значит для них?! Может быть, смертных правильней называть Живущими; может быть, мы лжем друг другу: одни — своим бессмертием, другие — своей смертью?!»