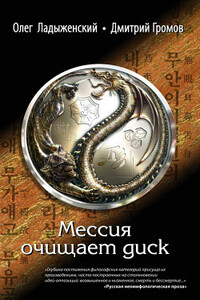Еле-еле вспомнив, о чем он только что думал, Эврит наконец вздохнул полной грудью и огляделся по сторонам более-менее осмысленным взглядом.
Это удавалось ему нечасто — сознание то и дело туманил тот, второй (вернее, первый, живший в этом теле до Эврита), которого так и не удалось убить до конца. Да, Эврит сумел подавить примитивное мышление юного Гиганта, но полностью уничтожить душу своего внука бывший басилей не смог. Он ходил, ел, дышал, стрелял из лука — все навыки прекрасно сохранились, — разговаривал с Одержимыми, но в то же время его разум, тень его бессмертной души всегда ощущала слабое, но настойчивое давление чужого и жуткого присутствия. Эврит грезил наяву, речь его становилась бессвязной, фантасмагорические видения роились внутри и снаружи — плачущие кровью скалы, огромный, довольно агукающий рыбий хвост, глотающий вереницы покорно бредущих к нему бесплотных призраков, усеянное слезящимися глазами небо, полуразложившиеся лица Одержимых-нянек…
Иногда он вспоминал встречу с Амфитрионом-Иолаем и всегда недоумевал: почему этот упрямый, несговорчивый человек сумел до конца убить душу своего внука, самолично захватив власть над телом?!
Он, Эврит-лучник, не смог — но, небо свидетель, не потому, что не хотел!
В редкие минуты просветления — как, например, сейчас — Эврит отчетливо сознавал, что сходит с ума; что он уже безумен — три с лишним года, которые он делил растущее тело с побежденным, но не уничтоженным внуком, не прошли даром.
«Нельзя безнаказанно заигрывать с Тартаром, — подумал он с горечью. — Мы пытались использовать Павших, они пытались проделать то же с нами… Можно ли без потерь для обеих сторон развязать создавшийся узел? Или его можно только разрубить?!»
Побывавший на Флеграх около года назад Лаомедонт-троянец тоже мучился этим вопросом, но и вдвоем они не нашли ответа.
Эврит вздохнул еще раз и обвел взглядом детскую половину Флегрейских Пустошей — ровный ковер бархатисто-черного пепла, редкие окраинные холмы, лениво гоняющиеся друг за другом вокруг центрального жертвенника («Обеденного стола», — усмехнулся он) дети-Гиганты… Гиганты — для богов. А для него и советующихся о чем-то Одержимых-нянек — дети. Внуки. Смертные потомки людей и Павших. Герои, не осознающие своего предназначения…
А каково оно на самом деле, это предназначение? И уверен ли сам Эврит в том, что знает это?
Сейчас Эврит не был уверен ни в чем.
Именно в этот миг на вершине близлежащего холма засеребрились нити открывающегося Дромоса.
Семья пришла на Флегры.
Эврит мог бы не узнать хромоногого Гефеста или Артемиду-охотницу; в конце концов, он мог не узнать даже Зевса-Бротолойгоса, поскольку до сих пор видел лишь его культовые изображения, имеющие мало общего с оригиналом, — да и не было Зевса среди явившихся на Флегрейские поля Олимпийцев.
Но своего учителя и палача, златолукого Феба-Аполлона, Эврит не узнать не мог!
И губы уродливо-прекрасного подростка, из глазниц которого глядел на мир старый Одержимый, растянулись в зловещей ухмылке.
Так встречаются волки из разных стай.
Эврит медленно поднял лежавший рядом лук, проверил тетивы, рабочую и запасную, перекинул через плечо ремень колчана со стрелами — хвала нянькам, снабдили всем, чем надо! — и, так же не спеша, натянул лук и наложил на тетиву первую стрелу.
Он никуда не торопился.
Олимпийцы пришли на Флегрейские Пустоши без Геракла — что ж, прекрасно! Если все произойдет как было задумано, Эврит и сам справится потом с Гигантами.
Правда, в приближающейся Семье недоставало Зевса и еще некоторых богов; это настораживало.
Дромос на холме засветился сильнее, и Эврит, покосившись на очередного гостя, довольно хмыкнул: помяни Громовержца — он и объявится!
И, спокойно прицелившись, как на рядовых состязаниях, пустил первую стрелу в грудь гордо шествовавшего впереди Семьи Аполлона.
Попал.
Бог пошатнулся, с удивлением глянул на торчащее из его тела дубовое древко со светло-сизым оперением, одним движением вырвал его, отшвырнул прочь — и безошибочно устремил гневный взор на достававшего из колчана вторую стрелу Эврита.
Золотой лук воссиял в руках Феба, но выстрелить Олимпиец не успел.