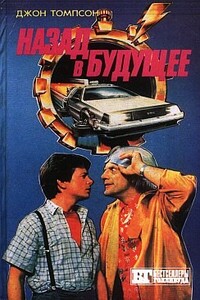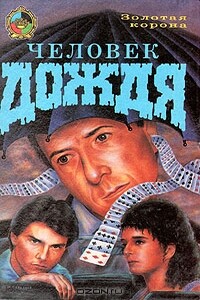Баббер покачал головой:
— Я довезу тебя до работы. Я знаю одного мужика в пункте стеклотары, у него одна нога.
Берни с отвращением швырнул ботинок на пол.
— Вот, продай ему этот ботинок, сможешь выручить немного денег — тебе хватит на бензин и на пропитание.
— Вряд ли у него есть деньги.
Но Берни уже забыл о ботинке. Теперь он размышлял над тем, что этот бездельник принял его за такого же бездельника. Можно подумать, что они одного поля ягоды: рабочий человек и неудачник, живущий на заднем сиденье своего грузовика.
— Говоришь, мне не повезло? — сердито пробормотал он. — Это я сейчас грязный. Но у меня хорошая квартира, телевизор —. Берни вдруг замолчал, вспомнив, что его телевизор теперь превратился в историю. — Стереоцентр. У меня есть работа.
Джон Баббер бросил задумчивый взгляд на щиток автомашины, где висело несколько порванных проводов и пустая розетка от бывшего аудиоустройства.
— У меня тоже было стерео, но его срезали. Плохо, что мы не можем послушать новости.
— Какие новости! Тебя что, интересуют цены на бирже? — с усмешкой поинтересовался Берни.
— А эта авиакатастрофа! У тебя интервью взяли?
Мысль об интервью не понравилась Берни. Одно дело — рассказать о своем приключении, и совсем другое — быть обвиненным в исчезновении сумочки и в том, что он не спас Флетчера. Кроме того, у Берни были свои причины держаться подальше от прессы.
— Брать у меня интервью? Ты что, шутишь?
— Раз ты попал в авиакатастрофу и вытаскивал людей из самолета… — начал Баббер.
Берни рассердился:
— Я не даю никаких интервью, приятель. Эта чертовщина никому не нужна. Мой девиз — быть скромным, не высовываться, понимаешь? У меня такое кредо.
— Да, но, может быть, тебя хотя бы сфотографировали? — спросил Баббер.
Но Берни раздраженно покачал головой. Среди всеобщего возбуждения он ничего такого не заметил. Он был совершенно уверен, что никто его не снимал. Но тем не менее ему стало как-то не по себе, и он поспешил оставить эту тему.
— У меня юридические неприятности, и мой адвокат не хочет, чтобы я общался с газетчиками. Выпусти меня здесь. Мне через десять минут надо быть в моем проклятом офисе.
Форд семьдесят третьего года, видавший гораздо лучшие времена, покатил дальше, в сутолоку дня.
Больничную палату Гейл можно было спокойно принять за цветочный магазин. Всюду стояли цветы с карточками от друзей, семьи, коллег по Четвертому каналу и от репортеров других каналов. Палата выходила на солнечную сторону и была очень приятная на вид: оклеенная ярко-желтыми обоями, с гравюрами, изображающими птиц, на стенах, и парой легких стульев для гостей; был здесь и телевизор с большим экраном.
Но Гейл не было дела до цветов, гравюр с птицами, обоев и легких стульев. Ее интересовали лишь подробности авиакатастрофы. Она хотела узнать все возможное о человеке, спасшем ей жизнь. Ее сломанную руку вправили, и теперь она была в гипсе; ногу Гейл туго забинтовали; раны на лице тоже перевязали. Ей также делали внутривенные вливания глюкозы и солевого раствора, но не это занимало ее ум. Только сюжет.
Три ее постоянных посетителя — Дикинс, Чаки и Конклин — уже рассказали ей все, что знали. Но для нее этого было невероятно мало.
— Я ничего не понимаю! — кричала Гейл, не веря им.
— Вы что, не можете его найти?
Дикинс чувствовал себя не в своей тарелке, отчасти из-за того, что больницы вообще пугали его, отчасти потому, что он никогда не ощущал себя счастливым где-либо, кроме своей рабочей пресс-комнаты в офисе, а отчасти еще и потому, что не представлял себе, как поставить букет цветов, который он принес Гейл, в вазу; но большей частью все же из-за того, что он знал заранее, что Гейл опять задаст ему тот же самый вопрос, и он в смущении опять не будет знать, что ей ответить.
— Там был такой хаос в тот вечер, так что не все пока ясно.
— Ты сказал, что все пассажиры на учете, — обвинительным тоном заявляла Гейл.
— Очевидно, тот, кто вытащил тебя, был не из числа пассажиров, — предположил Конклин.
— А кто же он? Санитар? Пожарник? На нем не было никакой формы…
Гейл была очень возбуждена.
Конклин неловко пожал плечами.