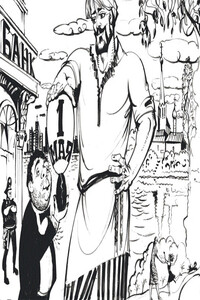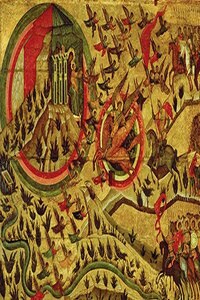-живописецвернулсякчистомудействувеликогоопыта...»В 1910-х оно шокировало. Потом господа-супрематисты чуть-чуть остепенились, поступили на довольствие к большевикам и даже задумались над проблемой развития архитектурных возможностей своего течения. Малевич дал творческое задание Эль Лисицкому – перевести супрематизм в объемные формы, что и стало началом ПРОУНов. Проект Утверждения Нового — типичная игра букв, а сам Лисицкий прокомментирует:«Холсткартинысталдляменяслишкомтесным,иясоздалпроуныкакпересадочнуюстанциюотживописикархитектуре».В этом биографическом факте — стремительность поезда. Ни что иное, как «пересадочная станция». И быстрее шибче воли поезд мчится в чистом поле, разве что«...живыхконейпобедиластальнаяконница».Проун — уже не плоскость, но ещё не строение. Это — преддверие домов-коммун и фабрик-кухонь. Преддверие без дверей. Без окон. Без прямого назначения. Рождение контура и — объёма. Красный клин превращается в красный угол, где ...нет икон.«Мыувидели,чтоновоеживописноепроизведение,создаваемоенами,уженеявляетсякартиной.Оновообщеничегонепредставляет,ноконструируетпространство,плоскости,линиистойцелью,чтобысоздатьсистемуновыхвзаимоотношенийреальногомира.Иименноэтойновойструктуремыдалиназвание—проун».
Как и все деятели русского авангарда, Лисицкий полагал, что «прошлое — тесно». Преемственность — глупа, хотя с ней приходится иногда считаться. У молодых – никакого почтения к старинным образцам и древним традициям. И если Маяковский оставлял «...отстарогомиратолькопапиросы«Ира», то Лисицкий разворачивал целую стратегию:«Мыоставилистаромумирупонятиесобственногодома,собственногодворца,собственнойказармыисобственногохрама.Мыставимсебезадачейгород—единоетворческоедело,центрколлективногоусилия,мачтурадио,посылающеговзрывтворческихусилийвмир:мыпреодолеемвнёмсковывающийфундаментземлииподнимемсянадней…этадинамическаяархитектурасоздастновыйтеатржизни…».Советская цивилизация — это индустрия и урбанизм, а потому города-грёзы«...сегоднявстаютиздняголубого,железомикамнемформясь». Лисицкий-архитектор известен, прежде всего, своим проектом «горизонтальных небоскрёбов», которые должны были разместиться на Бульварном кольце. Сам автор писал о них так:«Цель:максимумполезнойплощадиприминимальнойподпоре». Тогда всех занимала тема «полезной площади», и архитекторы стремились оптимизировать пространство. Лисицкий, меж тем, объяснял, в чём дело:«Мыживемвгородах,родившихсядонас.Темпуинуждамнашегодняониуженеудовлетворяют.Мынеможемсбритьихссегодняназавтраи«правильно»вновьвыстроить.Невозможносразуизменитьихструктуруитип».В те годы велась яростная полемика об идеальном населённом пункте — одни предлагали изничтожить всё, что понастроили «проклятые буржуины» и, расчистив обломки, выстроить город мечты; вторые – оказались умней и дальновидней, рекомендуя вписывать новые проекты в уже существующую застройку.«Дооснованья,азатем»– то дивный лозунг, но жизнь — мудрёнее. Лисицкий – радикален, однако же, и понимал невозможность одномоментного, быстрого обновления. Отсюда — попытка вмонтировать, встроить чудо-небоскрёбы в план тётушки-Москвы. Увы или к счастью оно не состоялось. Из реализованных проектов Лисицкого хорошо знакома типография журнала «Огонёк» – лёгкое, будто бы воздушное сооружение.
Коллажи — излюбленная техника авангарда — была позаимствована у дадаистов. «Детское» смешение фотографий, рисунков, буквиц и виньеток — это не только демонстрация полиграфических возможностей XX века, но и взрыв эмоций, пестрая смесь из деталей, событий и материалов. В коллажной технике работали все — Родченко, Степанова, Чернихов, Маяковский, Леонидов и, конечно же, Эль Лисицкий. Среди фотоколлажей выделяется работа 1929 года, созданная для русской выставки в Швейцарии — западный мир проявлял живой интерес к нашим достижениям. Плакат — фантастический и безумный. Изображён монстр, символизирующий, тем не менее, радостную молодёжь. Парень и девушка, слитые до состояния сиамских близнецов. Оскаленные улыбки. В глазах — какое-то первобытное зверство, но, вместе с тем, юные хомо-советикус показаны, как люди-автоматы, винтики. Стирание гендерных граней — что, впрочем, укладывалось в общую стратегию 1920-х, когда биологический пол воспринимался, как случайность, а женщина заявила о себе, как о полноценном субъекте отношений — трудовых, правовых и... сексуальных. Муссирование «полового вопроса» – это не только и не столько брошюрки мадам-распутницы Коллонтай о «любви пчёл трудовых»; это — война против допотопной (sic!) семьи. Постреволюционная эра — шквал экспериментов, зачастую вредных и откровенно шизофренических. Эль Лисицкий со свойственным ему пылом высветил жутковатые лики времени. Отразил тенденцию. Кстати, подобные безобразия — не лишь фантазии большевиков. Такие разговорчики велись во всех Парижах и Лондонах, а прокуренные стриженые девки отплясывали фокстрот в коротких платьицах. Предвоенные-тридцатые всем вправили мозги — и нашим, и не нашим. Прелюбопытно — в 1941 году Лисицкий снова делает коллаж, где мужчина и женщина объединены общим смыслом. На этот раз — войной. Волевые, открытые, русские лица. Половая принадлежность — тоже явлена.