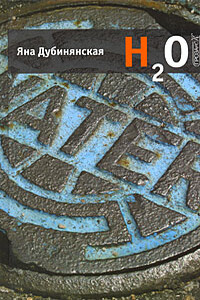Впрочем, Нури-тенг заметил его еще позже.
Только тогда, когда из темноты шагнула навстречу фигура, очертания которой скрадывали платье и накидка. Женщина подняла голову нам навстречу, ей пришлось даже запрокинуть лицо, все-таки спина животного лошади дает ощутимую разницу в росте… Луна высветила глубокие борозды и частую сеть морщин, они дробили лицо, скрадывали черты. Только глаза оставались крупными, выпуклыми, определенными; в них блеснули две маленькие искорки.
— Здравствуй, Нури-тенг, — сказала она. — И ты здравствуй, Юста-тену.
Мне было хорошо здесь.
Мне давно уже не было так хорошо. В Обители, хоть там за мной и ухаживали, кормили, поили травяными отварами и уговаривали ничего не бояться, постоянно присутствовала тревога, напряжение, стресс. И только здесь, только теперь мне удалось наконец избавиться от жутких призраков плена и атаки смертовиков. Наверное, не навсегда. Но все-таки.
Жилище было обставлено традиционно, то есть почти никак. Я знала, что тут должен быть один или несколько сундуков, но их нигде не было видно; обязательно две-три кошмы, исполняющие функции кроватей, на одной из них я сейчас и сидела; и самое главное — очаг, в котором причудливыми языками изгибалось пламя. Дым уходил в круглое отверстие посреди куполообразной крыши: клубы дыма попеременно делались то густыми, то совсем прозрачными, и тогда сквозь них проглядывали звезды: две маленькие и одна крупная, яркая. Небесный глаз.
Нури-тенг сидел напротив, и на его красивое мальчишеское лицо падали отблески пламени. Я вдруг вспомнила, как давным-давно, вечность назад, мечтала увидеть такие же отблески на лице Ингара… это совсем не было смешно. Тепло и грустно, как юность.
Я ему улыбнулась. И не удивилась ответной улыбке.
Между тем хозяйка, старая Айве-тену (старая?.. сопоставив некоторые ее фразы о давнем замужестве и погибших сыновьях, я прикинула, что ей немного за сорок; лишь чуть-чуть постарше меня), сняла с очага артефактный казанок, в котором бурлило что-то вкусное, с пряным запахом. Дала мне в руки глиняную пиалу, другую такую же протянула Нури-тенгу… не донесла.
— Покажи ладонь.
Даже в полумраке жилища, в красноватом отсвете огня, стало заметно, как вспыхнули его щеки. Но Айве-тену смотрела требовательно, и, отчаянно смущаясь, он все-таки развернул руку к свету.
Ничего себе! Нет, я тоже натерла мозоли об уздечку: мелочи по сравнению с недавно зажившими травмами, но, конечно, неприятно. Однако чтоб вот так, до крови, до мяса, на всю ладонь… до чего же нежный мальчик. И терпеливый.
— Пройдет, — пробормотал он.
— Дай руку.
Потрескивало пламя в очаге, шуршал ветер за оконницами, и таким же фоновым, природным звуком шелестел шепот хозяйки. Я не могла уловить — как ни вслушивалась, как ни старалась понять — ни одного знакомого слова. Темные морщинистые кисти Айве-тену, очень маленькие и когда-то, видимо, красивые, сплелись замком на белой костистой руке Нури-тенга.
И все.
— Все, — сказала Айве-тену.
Отпустила его ладонь и, наклонившись за пиалой, протянула ее ему снова. Потом зачерпнула из казанка, окликнула меня подставить посуду… Я вздрогнула и чуть было не расплескала горячую пищу себе на колени.
Нури-тенг вертел над очагом свою ладонь, разглядывая ее. Иногда она вспыхивала багряным, едва ли не насквозь просвеченная языками огня.
Гладкая и нежная, какая была, наверное, у юной Айве-тену в день ее далекой свадьбы.
«Не бойся».
— Я не боюсь, — ответила Мильям, не шевельнув губами.
Но она боялась. До того, что дробно позвякивали подвески в ушах, а пальцы поминутно нажимали то одну, то другую выпуклость на ручке, отчего маленькая нелепая повозка на одного человека двигалась причудливыми рывками, то притормаживая, то сворачивая в сторону, то пятясь назад. Никто не обращал внимания. А может быть, думали, что это такой танец. Здесь многие танцевали, не сходя с повозок. Здесь все передвигались беспорядочно и очень быстро, и первые несколько минут Мильям была уверена, что кто-нибудь собьет ее с ног. Вернее, с повозки… Робни говорил, как она называется, но Мильям забыла.