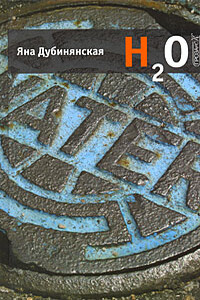— Улыбнись.
Улыбнулась — мгновенно, без малейшего зазора после его слов. Зубы у нее оказались желтоватые и неровные, они портили ее красоту.
— Ешь.
Девушка спрятала пол-лица за сырной лепешкой. Бедняжка… пробудить в себе настоящую жалость у Мильям не получилось. Жалость предполагает знание; а именно его недостаток она ощущала сейчас болезненнее всего. Знания — а не просто догадок — о том, на что она годы сознательно закрывала глаза. Каким образом эти странные, неправильные взаимоотношения между стареющим без единого шрама мужчиной и бесчисленными юными красавицами отражаются на пошатнувшейся судьбе Гау-Граза?!
Взаимосвязь есть. И ее необходимо раскрыть.
— Бери фрукты, — невнятно, с набитым ртом, посоветовал гостье Робни-сур. — Набирайся сил. Нам сегодня надо будет как следует поработать.
Мильям поперхнулась; отпила большой глоток кумыса.
А Робни— сур, улыбаясь, прожевал кусок жгучего мяса и слизнул с губы капельку соуса раньше, чем она скатилась в дебри седой бороды. Почти насильно вложил в руку девушки большое яблоко. И поверх ее головы подмигнул жене:
— А Мильям-сури посмотрит, как мы это делаем.
Она сидела на кошме, втупившись в стену; Мильям видела только затылок и четыре толстые иссиня-черные косы, неестественно прямые, как и спина их владелицы. Газюль не шевелилась. Уже почти четверть часа.
Тихонько поскрипывал край оконницы. Больше — ни единого звука.
И ничего не происходило.
— Слышишь? — внезапно спросил Робни-сур, и Мильям вздрогнула.
Девушка ничего не ответила. Робни-сур подошел к ней, положил ладони на узенькие плечи. По девичьей фигурке словно пробежала волна: вздрогнули руки, изогнулись косы, расслабилась спина… В какой-то момент Мильям показалось, что Газюль сейчас упадет; но пальцы Робни-сура на ее плечах превратились в железные когти сапсана, подхватывающего маленькую птичку. Он развернул ее к себе: в полумраке комнаты лицо девушки странно лунно белело.
— Она закрылась, — прошептала Газюль. — Правда… я бы услышала… Закрылась. Сама…
— С чего бы это? — Робни-сур отпустил ее; говорил он негромко, сквозь зубы. — Вчера все было нормально. С ней все в порядке?
Газюль по-девчоночьи поджала под себя ноги, обхватила руками плечи; кажется, ее знобило, едва ли не трясло. Ответила еще тише, с плачущей умоляющей ноткой:
— Я не знаю… Я бы почувствовала… Она закрылась. Совсем.
— Ерунда какая-то, — пробормотал он.
И вдруг — резко, раздраженно, зло:
— Ты не старалась! Ты зажалась из-за Миль, да?! Дурочка!…
Мильям подалась вперед. Еще не осознавая, чего именно она хочет: вмешаться, смягчить его грубость, защитить эту… действительно маленькую дурочку, никак иначе. Поймала себя на точно таком же, как у него, зеркальном раздражении. На нее, на него, на себя саму.
Он не считал нужным что-то скрывать от нее, Мильям. Она все видела.
И ничего не поняла.
— Ладно. — Робни-сур вроде бы немного успокоился. — Попробуем выйти на связь завтра. В крайнем случае, если у тебя не пройдет этот идиотский зажим, возьму Сейлу, поняла?… А сейчас пройдемся по вееру. Ты готова?
Совсем неслышно, жалобно:
— Я устала…
— Она устала, — наконец подала голос Мильям. — Отпусти ее.
Муж обернулся к ней. В полумраке его лицо казалось смазанным набором пятен: темные — глаза, нос и скулы, светлые — борода, волосы и брови. Он усмехнулся, и в темной щели губ мелькнуло еще одно длинное белое пятно.
— Хорошо, — согласился он. — Отпускаю.
Мильям не заметила, когда и как исчезла Газюль. Наверное, прошмыгнула на цыпочках, на волос приоткрыв дверь… а может быть, и не открывала вовсе. Она ведь наверняка первая дочь в семье. И где он только их берет до сих пор? Почему эти девушки верят ему, чего ради идут к нему и за ним — неужели они не знают?… Совсем ничего не знают о тех, других, что были перед ними?!.
— Миль, — сказал Робни-сур. Тем самым голосом, какой она представляла себе, добавляя в жаркое жгучие пряности.
Нет.
Вывернулась, отстранилась, отошла в дальний конец комнаты. Открыла оконницы, впуская уже мягкий розоватый предвечерний свет. Налицо Робни-сура легли теплые отсветы, сделав его более живым, близким. Но все равно.