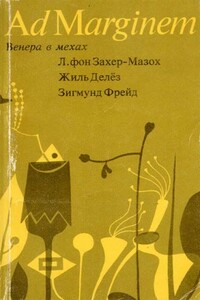Теперь появляется второй элемент комплексной организации. По мере того как функция-свидетель циркулирует в картине и видимый свидетель уступает место ритмическому, происходят две вещи. С одной стороны, ритмический свидетель не является таковым сразу; он становится таковым, только когда функция-свидетель доходит до него и затрагивает его; прежде он остается на стороне активного или пассивного ритма. Вот почему лежащие персонажи триптихов часто еще сохраняют трогательный остаток активности или пассивности, который заставляет их выстраиваться по горизонтали, не лишая вместе с тем весомости или живости, расслабленности или за-жатости, происходящих из другого источника. Так, в «Суини-агонисте» спаренная Фигура слева пассивна и лежит на спине, тогда как Фигура справа еще энергична и чуть ли не кружится; а чаще одна и та же спаренная Фигура включает и активное тело, и пассивное: часть ее едва показывается над горизонтом (голова, ягодицы и т. д.). Но, с другой стороны, наоборот, свидетель, переставший быть видимым, оказывается свободен для других функций; он переходит на сторону активного или пассивного ритма, связывается с тем или с другим, как только перестает >44 быть свидетелем. Так, видимые свидетели в триптихе 1962 года
кажутся оскалившимися, как вампиры, но один из них, пассив- 44 ный, придерживает себя за поясницу, чтобы не упасть, а другой, активный, готов взлететь; или—два видимых свидетеля в триптихе 1970 года, слева и справа. Триптих исполнен вели- 4 кого движения, великой циркуляции. Ритмические свидетели подобны активным или пассивным Фигурам, которые только что обрели стабильность или еще ищут ее, тогда как видимые свидетели—на пороге рывка или падения, вот-вот станут пассивными или активными.
Третий элемент комплексной организации касается активного и пассивного ритмов. В чем заключаются эти два направления вертикальной вариации? Как распределяются два противоположных ритма? В простых случаях имеет место оппозиция спуск—подъем: в триптихе монстров (1944) по сторонам от го- 83 ловы с горизонтальной улыбкой мы видим еще две головы— одна, с ниспадающими волосами, опущена, а другая, напротив, устремляется вверх, разинув в крике рот; в «Штудиях человеческого тела» (1970) двое растянувшихся в круге центральной 4 части окружены слева формой, которая кажется вырастающей из своей тени, а справа—формой, будто бы втекающей в себя, как в лужу. Но это уже частный случай другой оппозиции, диастола—систола: здесь сжатие противостоит особого рода растяжению, расширению, спуску-истечению. «Распятие» (1965) 45 противопоставляет спуск-истечение распятого мяса в центральной части крайнему сжатию палача-нациста; «Три Фигуры в комнате» (1964) противопоставляют расслабление челове- 84 ка слева, сидящего на унитазе, и судорогу человека на табурете справа. Но, возможно, самый изощренный вариант представляют «Три штудии мужской спины» (1970), демонстрирующие 29 с помощью линий и цветов оппозицию широкой расслабленной розовой спины слева и напряженной красно-синей спины справа, тогда как в центре синий цвет, кажется, обретает стабильный уровень и вмешивается в темное зеркало, чтобы обозначить функцию-свидетеля. Впрочем, оппозиция, не стано-
вясь менее впечатляющей, может строиться иначе: так, в трип-з тихе 1970 года она противопоставляет справа и слева голого и одетого, которые присутствуют в качестве видимых свидетелей 40 уже в триптихе 1968 года, слева и справа; наконец, в триптихе 9 Люциана Фрейда (1966) с большей тонкостью противопоставлены обнаженное плечо, соседствующее со сжавшейся головой, слева и вновь прикрытое—справа, рядом с расслабляющейся, оседающей головой. Но нет ли другой оппозиции, которая бы сама предполагала оппозицию голого-одетого? Это оппозиция увеличения—уменьшения. Изобретательность Бэкона в выборе прибавляемого и вычитаемого не знает границ, и мы сможем глубже продвинуться в области величин и ритма, заметив, что прибавляемое или вычитаемое есть не количество, множество или подмножество, а величина, определяемая через точность или «краткость». Так, например, прибавляемым может быть наудачу положенный мазок из тех, что любит Бэкон. Возможно, самый яркий и волнующий пример дает нам триптих 72 августа 1972 года: свидетелями выступают растянувшаяся пара в центре и четко очерченный лиловый овал; торс Фигуры слева сокращен—ему не хватает значительной части; справа он на пути к восполнению—половина недостающей части уже прибавлена. Не меньше меняются ноги: слева мы видим одну целую и одну намечающуюся ногу; справа—все наоборот: одна нога уже удалена, и вытекает другая. С этим связаны и метаморфозы лилового овала: слева он становится розовой лужей возле стула, а справа—розовой жидкостью, вытекающей из ноги. Так увечья и протезы включаются у Бэкона в общую игру вычитаемых и прибавляемых величин: словно бы целый сонм истерических «снов» и «пробуждений» поражает различные части тела. Вместе с тем этот триптих—одна из самых музыкальных картин Бэкона.