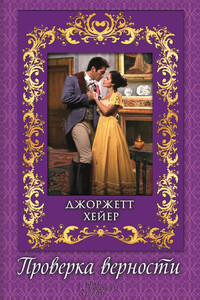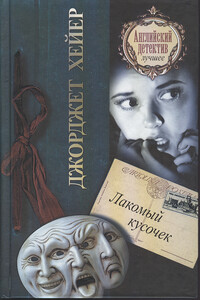— Нет, нет! — запротестовал Тревор, — Вы не поняли меня, сэр! Ни в коем случае не Керри! Мисс Мерривилл отчетливо произнесла «Черис». Я еще подумал, что оно как нельзя больше подходит ей, ведь с греческого, знаете, это переводится как «грация».
— Спасибо, Чарльз, — смиренно произнес его светлость. — Что бы я без тебя делал?
— Я подумал, что вы могли забыть это, сэр, — вы всегда жалуетесь на свою память!
Маркиз с притворной скромностью поднял свою сильную изящную руку, как бы защищаясь.
— Ну хорошо, Чарльз, дерзкий мальчишка!
Осмелев, Тревор сказал:
— Мисс Мерривилл надеется, что вы заедете на Верхнюю Уимпол-стрит, сэр. Вы поедете?
— Если ты пообещаешь мне, что я увижу там эту красавицу Черис.
Тревор не мог, конечно, этого пообещать, но понял, что лучше не продолжать этот разговор, и удалился с надеждой на благоприятный исход дела.
Обдумывая свою беседу с маркизом, он испугался, что, представляя таким образом Черис пагубному вниманию Алверстока, он оказал ей плохую услугу. Тревор не боялся, что Алверсток попытается соблазнить юную девушку благородного происхождения; как бы привлекательна она ни была, такие безответственные приключения были не в его духе; но он может, если Черис завладеет его вниманием, увлечь ее своими ухаживаниями, окружит преувеличенными знаками внимания и заставит ее поверить, что его чувство серьезно. Вспомнив ее мягкий взгляд и доверчивую улыбку, Чарльз представил, как легко можно разбить ее сердце, и почувствовал угрызения совести. Но затем ему пришло в голову, что она не одна и что ее родители смогут уберечь ее от опасного флирта. Кроме того, юные девушки всегда наводили на Алверстока скуку. Что касается мисс Мерривилл, Тревор чувствовал, что она способна о себе позаботиться. Он был ослеплен ее прекрасной спутницей, но самоуверенная женщина со слегка орлиным носиком на него не произвела большого впечатления. Такую голыми руками не возьмешь. Дальнейшие размышления привели его к выводу, что маркиз не станет играть ее чувствами, вряд ли такой знаток женской красоты, как Алверсток, заинтересуется ею.
Спустя несколько дней, в течение которых лорд не упоминал о ней и, конечно же, не нанес ей визита, Тревору стало казаться, что он решил проигнорировать ее просьбу или забыл о ее существовании. Тревор знал, что его долг напомнить ему, но он воздержался, так как момент казался не самым подходящим. Его светлости пришлось вынести три визита — двух старших сестер и матери его наследника, которые навеяли на него такую тоску, что все домочадцы старались не выводить его из себя.
— Знаете, мистер Уикен, — говорил напыщенный камердинер лорда, обращаясь к дворецкому, — говорят, что, когда его светлость сердится, он может дом разнести.
— Мне это хорошо известно, мистер Нэпп, — отвечал ему Уикен, — поскольку знаю его светлость с колыбели. Он похож этим на своего отца, покойного лорда, но вы, конечно, не застали его, — с превосходством оглядел он своего коллегу.
Лорд действительно очень устал. Леди Бакстед, которая никогда не сдавалась сразу, явилась в Алверсток-хауз, болтая без умолку, в сопровождении своей старшей дочери, которая, не сумев смягчить сердце дядюшки с помощью лести, разразилась слезами. Но так как она не принадлежала к тем немногочисленным женщинам, которые не делаются уродливыми от слез, он остался глух к ее рыданиям, как и к жалобам своей сестрицы на стесненные обстоятельства, в которых она оказалась. Только бедность, заявила леди Бакстед, заставила ее обратиться к брату за помощью в таком важнейшем деле, как вывод в свет ее дорогой бедняжки Джейн. Но ее братец с самой дружелюбной улыбкой заметил, что правильнее сказать скупость, а не бедность. Это окончательно вывело ее светлость из себя, и она произнесла такое выражение, которое, как сообщил Джеймс, лакей, ожидавший в холле, редко услышишь от базарной торговки.
Миссис Даунтри была следующей гостьей его светлости. Как и леди Бакстед, она была вдова. Она разделяла мнение своей кузины, что забота о ее отпрысках — долг Алверстока, но на этом сходство между ними кончалось. Леди Бакстед считалась несколько вульгарной, чего никак нельзя было сказать о миссис Даунтри, которая производила впечатление женщины крайне хрупкой, но стойко переносившей все невзгоды. В юности она была признанной красавицей, но частые жалобы на подверженность инфекциям укрепили ее во мнении о своей болезненности, и, выйдя замуж, она стала усиленно (как выражались леди Бакстед и леди Джевингтон) пичкать себя лекарствами. Безвременная кончина мужа также наложила отпечаток на ее слабое здоровье: у нее были бесконечные нервные расстройства, она пробовала различные диеты и курсы лечения, что в конце концов довело ее фигуру до призрачных пропорций. К сорока годам она так увлеклась ролью умирающей, что в перерывах между развлечениями большую часть времени проводила, изящно расположившись на диване, почти никого не принимая, рядом со столиком, уставленным пузырьками и склянками с коричной водой, валерьянкой, лавандовыми и камфорными нюхательными солями и другими болеутоляющими или общеукрепляющими средствами, которые ей советовали ее знакомые или которые рекламировались аптекарями. В отличие от леди Бакстед она не была ни раздражительна, ни скупа. У нее был тихий, жалобный голосок, который, когда ей перечили, становился еще слабее и жалобнее; и она готова была спустить все состояние на детей, как и на саму себя. К сожалению, ее состояние было недостаточным, чтобы обеспечить ей жизнь, к которой, по ее словам, она привыкла, не заботясь об экономии; а, поскольку она была слишком слаба здоровьем, чтобы овладеть искусством управления имуществом, то жила не по средствам. Миссис Даунтри была пенсионеркой Алверстока в течение ряда лет, и хотя небо знает, как страстно она желала быть независимой от его щедрости, она была, хотя и нетвердо, уверена в том, что, раз ее красавец сын является его наследником, то прямой долг маркиза — обеспечить также и ее дочерей.