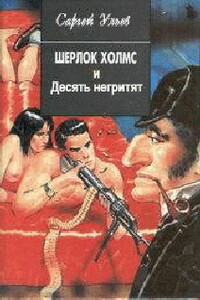— Забалтывается старик, — тихо ответил тот. — Он ведь разменял уже третью тысячу.
— Долларов?
Шелти взглянул на Крюгера, как Крестный отец на своего непутевого сына.
— Фунтов стерлингов! — передразнил он.
Крюгер ничего не понял. Шелти окончательно сбил его с толку.
— Кто здесь заговорил о деньгах? — вдруг раздался выразительный с придыханием голос. — О, деньги! Назовите мне более презренный металл.
С верхнего этажа в холл спускался статный мужчина в шляпе и сапогах. В одной руке у него был подсвечник, другая крепко сжимала черный хлыст, которым он похлопывал себя по голенищу сапога.
— Да, господа, — нараспев продолжал он. — На земле весь род людской чтит один кумир священный, он царит по всей вселенной. Тот кумир — телец златой… Но златой телец может только мычать! А? Вдумайтесь, господа. Из-за коварного перезвона монет никто уже не слышит вдохновенной музыки, что нас окружает… Люди гибнут за металл.
— Просто какие-то куплеты Мефистофеля, — хмыкнул Шелти.
— Только не помню из какой оперы.
— «Гуно» Фауста, — снисходительно ответил неизвестный.
— А я думал «Фауст» Гуно.
— Мда?… Вы правы, мсье. Я оговорился.
— Позвольте представить, — сказала египетская мумия, — Эрик Деслер, Призрак Парижской Оперы.
— Да, это я, — с гордостью выпятил грудь призрак.
— Эрик! — радостно воскликнул Крюгер. Подойдя к нему, он коснулся его фрака рукой, словно желая убедиться, что это не сон. — Ты здесь? Разве тебя не пристрелили?
В руке призрака дрогнул подсвечник. Лицо болезненно вытянулось. Глаза забегали.
— Кристина?! Не верю собственным глазам! Какими судьбами, любовь моя? Молчи! Не говори ни слова. Ты здесь. О, как я счастлив. — Эрик опустился на одно колено и попытался поцеловать Крюгеру перчатку. — Позволь мне…
— Не позволю! — заорал Фредди, отскочив от него, как от прокаженного. — Не позволю! Опять ты за свое.
— Кристина, ты больше не любишь меня? — с горечью произнес Эрик. Он медленно выпрямился. — Вспомни, дитя мое. Я научил тебя петь. Я подарил тебе голос, от которого можно сойти с ума. И вот расплата за мою благосклонность! Ты хочешь растоптать мою любовь. Хочешь выбросить ее на помойку, на съедение крысам…
— Да я никогда тебя не любил! — взревел Крюгер. — И чего тебе вообще от меня надо?!
Черты Призрака Оперы исказились от гнева. Он шел на отступавшего к стене Крюгера, высоко подняв над головой подсвечник. С наклонившихся свечей на шляпу призрака капал горячий воск. Но он этого не замечал.
— Вы только взгляните, господа, на это неблагодарное дитя! — восклицал он, показывая на Фредди своим дрожащим пальцем. — О, тщедушное дитя порока, я не вижу в твоих глазах даже намека на сострадание. Но ничего, я тебя проучу… — Он выхватил из голенища сапога хлыст и замахнулся. — Я превращу тебя в синкопу!
Крюгер закрыл лицо руками.
Шелти перехватил руку Эрика за запястье и вырвал у него хлыст.
— Остынь, приятель, никаких Кристин здесь нет и не предвидится. Она ведь еще не успела продать душу Дьяволу?
— Продать! Опять вы о деньгах, — печально вздохнул Призрак Оперы, опускаясь в кресло. Он посмотрел на Крюгера. — Здравствуйте, мсье. Простите, не помню вашего имени?…
— Фредди Крюгер, — буркнул тот, приподняв шляпу.
— Кажется, мы с вами встречались? Ну конечно! У меня в Опере. — Эрик вдруг все вспомнил. — Это было ужасно. Эта ваша мадемуазель в шубе… Из-за нее я забрызгал кровью все клавиши органа.
— Как же вы уцелели?
— Музыка — вот мое единственное лекарство и спасение. Стоило одной молоденькой скрипачке наиграть мотив из «Торжествующего Дон Жуана», — и мои страшные раны затянулись сами собой и кровь опять зажурчала по жилам.
— Господа, — сказала египетская мумия, — как говорили древние фараоны, солнце уже закатилось. Предлагаю починить дверь и пройти в гостиную.
По кругу гостиной горели свечи, освещая сгорбленную фигуру в черном монашеском балахоне, которая сидела у погасшего камина. Костлявые пальцы, высовывавшиеся наружу из широких рукавов, не спеша перебирали четки.
В поднятом капюшоне нельзя было заметить ни головы, ни черепа, а на руках монаха не было ни кожи, ни мяса. И тот, кто, взглянув на него, решил бы, что перед ним находится скелет, был бы не так уж далек от истины. Но в капюшоне, в этой зияющей мрачной пустоте, как угли, тлели подвижные, цвета заката глаза.