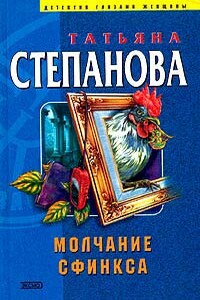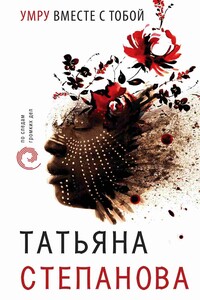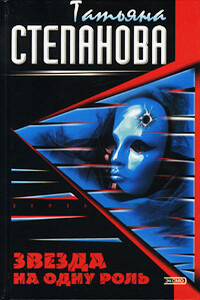Крытые новым цинковым железом крыши фермы Александра Павловского маячили вдалеке среди густой зелени. Добраться туда можно было по дороге, огибавшей подножие Черного кургана, и напрямик — через ржаное поле. То самое поле…
С реки доносились гортанные крики, щелканье кнутов, мычание — стадо, подгоняемое верховыми, переходило Славянку вброд. Коровы, спасаясь от мух и слепней, надолго блаженно застывали в прохладной воде, не торопясь выбираться на противоположный берег.
Там, на реке, было шумно, кипела жизнь, а здесь, на поле, было тихо и жарко. Катя, заслоняясь от солнца рукой, смотрела на крыши фермы Павловского. Она вспомнила: несколько лет назад не кто иной, как он, готовил на телевидении целую серию репортажей о криминальных авторитетах столицы и Питера. Он активно брал у братвы интервью, общался с влиятельными людьми. Снимал их особняки, дорогие лимузины, их сходки, их любовниц, их легальный бизнес, их досуг. Каким-то образом он был допущен туда; в эту жизнь, и имел там немало знакомых. И Богдан Бодун с его прошлым вполне мог быть одним из них. Из всех тех, кто проживал здесь, в Славянолужье, именно Павловский казался самым подходящим кандидатом на роль человека, к которому год назад мог ехать в гости из Тулы (если он вообще ехал именно в Славянолужье) подвыпивший Богдан Бодун.
Так думалось Кате. И эта мысль была первым вожделенным кирпичиком для новой модели происшедших в этих местах событий — модели приземленной и объяснимой, за которую, возможно, и стоило ухватиться, однако…
Объективная реальность снова была безжалостно вывернута наизнанку, словно старый, потрескавшийся от времени плащ-дождевик. И случилось это через какое-то мгновение, когда Катя, более уже не колеблясь, зашагала через поле к ферме.
Да, что-то вдруг случилось. Что-то разом изменилось в ней самой, едва она вошла в рожь. Кровь застучала в висках. И как-то вдруг сразу вспотели ладони и пересохло горло.
И снова высокие золотые колосья подступали со всех сторон, смыкаясь, точно военный строй перед битвой. И небо над головой было блеклым, спекшимся от жара, тяжелым сводом. И солнце нестерпимо пекло голову.
Пространство, словно в одночасье, сузилось, ограничившись узким просветом, когда Катя раздвигала сухие, упругие, отягощенные налитым колосом стебли руками. А расстояние вдруг увеличилось: железные крыши фермы, так хорошо видные с дороги, точно уплыли куда-то назад, растворяясь в мареве полуденного зноя.
Что-то слабо зашуршало сзади. Катя быстро оглянулась: зверек пробежал, или спугнутая с гнезда птица юркнула в рожь. Птица перепелка…
Надо было идти по дороге, — подумала Катя, облизывая пересохшие губы. — Надо вернуться и идти по дороге. Надо просто повернуть назад, выбраться отсюда и…
Ржаные колосья зашуршали, заколыхались под ветром, закивали: да, да, но это не так просто — выбраться отсюда. Катя смотрела на это ожившее золотистое покрывало. Никогда прежде она не ощущала себя так, как здесь. Она словно растворялась в этом шорохе и зное и одновременно прирастала к месту. Повернуть назад было невозможно!
Черная, бессчетное количество раз перепаханная земля, проросшая зерном, словно источала из всех своих сухих пор странный, вязкий, кружащий голову дурман. А впереди среди примятых колосьев что-то темнело. Катя, точно кто-то подталкивал ее, подалась вперед, в самую гущу ржи, и… едва не наступила на чью-то руку.
Это было как в том самом сне — так же нереально и страшно. Она резко отшатнулась, но не успела: смуглые, перепачканные землей пальцы железной хваткой сомкнулись на ее обнаженной лодыжке.
Катя дико вскрикнула. Рожь зашуршала, и что-то темное, заворочавшись, приобрело очертания человеческой фигуры, хищно, по-звериному, распластавшейся на земле…
Рывок — и Катя упала, не понимая, что происходит, что надо делать и как защитить себя.
— …Тише, тише, — прошептал кто-то над самым ее ухом, голос был какой-то странный. — Тише. Неужели я вас так напугал?
Словно из тумана, выплыло чье-то лицо: темные блестящие глаза, смуглая кожа, траурная полоска усов над верхней губой. Пахнуло потом.