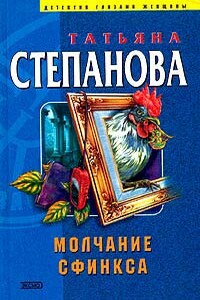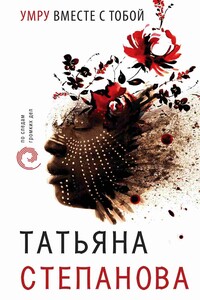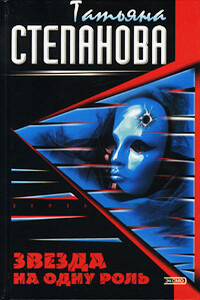Она была очень молода. И от этого в такой день — день похорон — Хвощеву было просто невыносимо ее видеть. Он смотрел на медсестру, а видел своего сына Артема. Они были почти ровесники. Может, эта глупенькая медсестра была чуть постарше, но для людей возраста Хвощева эта разница почти неразличима.
Медсестра высунулась в окно под дождь. Потом подошла к двери, открыла ее, выглянула в коридор. И снова вернулась в палату.
Она не уходила. Это было не по правилам. Можно было прикрикнуть на нее: «Уходите, оставьте меня», но… В принципе медсестра ему не мешала. Хвощеву уже ничего не мешало здесь. Телу, потерявшему вес и чувствительность, утратившему саму сущность жизни — движение, было уже все равно.
Хвощев подумал: а вот и не прав отец Феоктист; проповедовавший красноречиво, что в конце всего приходит осознание и раскаяние. Он ошибался — осознание, раскаяние, боль, угрызения совести были в самом начале, когда он, Хвощев, еще верил, заставлял себя верить, что все поправимо, что он встанет с больничной койки и все будет как прежде — дом, завод, сын, дело, доходы, поездки, женщины, связи, друг Мишка Чибисов, Москва… Ох, Москва…
Когда он понял, что врачи в его случае не помогут, он решил, что помогут не врачи. Отец Феоктист горячо поддерживал в нем эту веру, убеждая, что надо молиться об исцелении, освободив свое сердце от грехов, за которые и послано в наказание это страшное испытание — авиакатастрофа, паралич. Хвощев цеплялся за эти его слова как за соломинку. Он вспомнил и рассказал отцу Феоктисту все, даже то, что все эти годы старался не вспоминать, потому что священник требовал вспомнить и раскаяться во всем — большом и малом, вольном и невольном, по его словам равным по своей сути.
Но разве могло быть таким страшным, таким неискупаемым грехом это глупое, досадное, пьяное происшествие, этот нелепый несчастный случай?! Они же не хотели тогда ничего плохого… Они просто были пьяны. И эта жалкая девчушка, эта наркоманка, имени которой он даже не помнил, была вдрызг пьяной, злобной, как дикая кошка… И она тоже была виновата, потому что вела себя с ними — взрослыми, солидными, знающими себе цену мужиками там, по пути в Москву из Ольгина, как самая распоследняя стерва. А ведь не ей, шлюхе, стриптизерше, было разыгрывать из себя недотрогу… И вообще, тогда во всем, абсолютно во всем виноват был только Бодун, один он. Она была его клубной пассией. Он взял ее с собой в это чертово Ольгино в охотничий коттедж, он вообще распоряжался ею как хотел, а они с Мишкой Чибисовым были тогда просто…
Хвощев едва не застонал — из белой больничной метели мертвецы являются каждую ночь и мстят, мстят, мстят каждый день, отнимая постепенно все. Он никогда не верил в это, хотя с детства слышал какие-то темные бредни, ходившие в Славянолужье, — о мертвых, о мести… Все это было для слабоумных, для больных, для уставших от реальности, для чужих. А он был местный, он родился и вырос там. Когда они с Чибисовым узнали, что Бодун убит в поле у проезжей дороги, они подумали… Нет, ничего они не подумали тогда, просто решили, что Богдаша Бодун в конце концов нарвался.
Но спустя полгода после той авиакатастрофы, уже не ощущая, а лишь наблюдая свое прежде такое сильное, послушное тело со стороны, он, Хвощев, впервые задумался о…
Не есть ли это ужасное, приключившееся не с зарвавшимся Бодуном, и не с кем-то другим, чужим, а с ним, с ним самим, несчастье — расплата за…
Чибисов никогда не понимал этих его мыслей. И, кажется, не задумывался об этом до самого конца. Может, только в самом конце…
А вот священник — тот понимал. Проповедовал, спасал, учил… Но и он либо врал, либо заблуждался, бедный, сам ничего толком не зная. А может, просто не желал признать, что мертвые, те, кого мы погубили, пусть и не желая этого, все равно сами по себе и не нуждаются в нашем запоздалом истерическом раскаянии. И уж если и возвращаются в облике черного ангела-мстителя, стараются просто не замечать этого. А в конце всего и после всего приходит одно только равнодушие. И, наверное, это и есть тот вечный, предвечный покой, во всем его блаженстве.