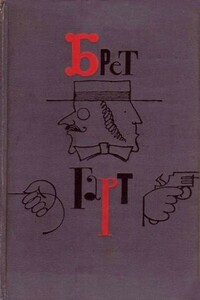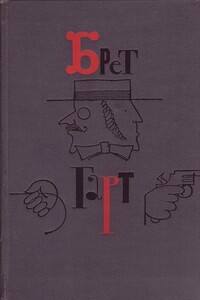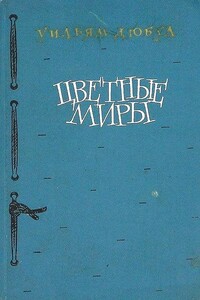— Вы очень любезны и так бескорыстны, — пролепетала его дама. — Так отрадно встретить в этом жестокосердном обществе человека, наделенного душой, человека, способного на понимание и сочувствие!
Миссис Третерик опустила глаза, которые, однако, к тому времени уже успели произвести на ее собеседника свое безотказное действие.
— Да, конечно, разумеется, — отозвался полковник, нервно озираясь. — Да-да, разумеется.
Убедившись же, что их никто не видит и не слышит, он стал уверять миссис Третерик, что всю жизнь страдал из-за того, что наделен чересчур богатой душой. Многие женщины — будучи джентльменом, он, естественно, воздержится от упоминания имен, — многие красивые женщины искали его общества, но, поскольку они были лишены, абсолютно лишены, мадам, вышеупомянутой души, он не мог отвечать на их чувства. Когда же встречаются две созвучные натуры — равно презирающие жалкие помехи, воздвигаемые низменными и вульгарными людьми, и условности, которыми пронизано лицемерное общество, — когда две души сливаются в поэтической гармонии, тогда... — но тут язык полковника, до сего момента изъяснявшегося с известной бойкостью, которой, возможно, способствовало утреннее возлияние, отяжелел, стал заплетаться и понес что-то совершенно нечленораздельное. Но миссис Третерик, видимо, слышала подобные высказывания и раньше и могла без труда восполнить пробелы. Во всяком случае, всю остальную дорогу до дома обращенная к полковнику щечка рдела румянцем стыдливой радости и девического волнения.
Это был очень приятный домик, новенький, выкрашенный в теплые тона и ярко выделявшийся на фоне темных сосен, сомкнутым строем окружавших расчищенный и обнесенный изгородью участок, посреди которого он стоял. Кругом царило полное безмолвие. Казалось, что в этом залитом солнцем домике никто еще не живет, что отсюда только что ушли плотники и маляры. В дальнем углу участка невозмутимо копался китаец — никаких других людей не было видно. Путь, как выразился полковник, действительно был свободен. Миссис Третерик на секунду задержалась в калитке. Полковник хотел было последовать за ней, но она остановила его жестом.
— Приезжайте за мной часа через два — у меня все будет готово, — сказала она, улыбаясь и протягивая ему руку. Полковник схватил ее и пожал с большим жаром. Возможно, что он ощутил легкое ответное пожатие, ибо удалился, выпятив грудь и браво чеканя шаг, насколько это позволяли его широконосые сапоги на толстом каблуке. Когда он ушел, миссис Третерик открыла дверь, мгновение постояла в пустой прихожей, прислушиваясь, и затем быстро взбежала по лестнице в свою бывшую спальню.
Здесь ничто не изменилось с того вечера, когда она отсюда ушла. На туалетном столике стояла коробка из-под шляпки — она помнила, что оставила ее на этом самом месте. На каминной полке лежала забытая ею при бегстве перчатка. Два нижних ящика бюро были приоткрыты — она забыла их задвинуть, — а на мраморной крышке лежала булавка для шали и запачканная манжета. Не знаю, что они ей напомнили, но она вдруг побледнела, задрожала и, взявшись за ручку двери, с бьющимся сердцем прислушалась. Она подошла к зеркалу и со страхом и любопытством раздвинула русые волосы над розовым ушком, где обнаружилась глубокая полузажившая рана. Она долго ее рассматривала, поворачивая головку так и сяк, и от этих манипуляций ее бархатные глаза стали косить гораздо заметнее. Потом она с беззаботным, легкомысленным смешком отвернулась от зеркала и подбежала к шкафу, где висели ее драгоценные платья. Она с беспокойством их перебрала и, не найдя на обычном месте любимого платья из черного шелка, чуть не лишилась чувств от ужаса, но тут же обнаружила его на сундуке, куда сама его бросила в спешке. Тут она, чуть ли не впервые в жизни, от всей души возблагодарила творца, который заботится о беззащитных. Потом, хотя надо было спешить, она не смогла удержаться от искушения приложить к надетому на ней платью бледно-лиловую ленту. Глядя в зеркало, она вдруг услышала у себя за спиной детский голос. Она замерла, а голос повторил:
— Это мама?