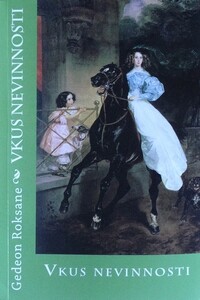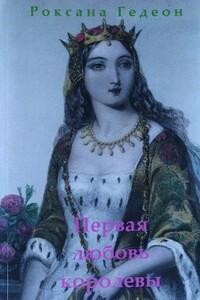– Явились, мерзавцы! А я уж думала, что вы сдохли где-нибудь под забором, и благодарила за это мадонну… А вы живы, дьявол вас побери! Где же вас носило, паршивцев эдаких?
Ее брань нас не пугала: мы привыкли к ней, как к самой нежной ласке. Она сопровождала нас от самого рождения. Мы знали, что старая Нунча не питает к нам ненависти, просто такой уж у нее характер.
– Давай ужинать, старушка, – миролюбиво сказал Антонио, – спать ведь хочется.
– О, вы посмотрите на него – ужинать! А у самого вся рожа в крови. С кем это ты дрался? Верно, с таким же чертякой, как сам!
Бранясь и чертыхаясь, она швырнула на стол миски и ложки, поставила горшок с заранее разогретой к нашему приходу полентой[10] и блюдо с нашим любимым лакомством, приготовленным к празднику, – горячими фаринате.[11]
– Лопайте, язви вас в кочерыжку!
Она разлила по мискам необычайно густую дзуппу.[12] Некоторое время слышно было, как стучат ложки.
– Эта маленькая дрянь сбежала из школы, – объявила Нунча, глядя на меня с гневом. Я съежилась. – И поделом тебе достанется завтра от фра Габриэле!
Губы у меня задрожали, лицо искривилось, и я всхлипнула. Слезы были готовы сорваться с ресниц.
– А я не пойду завтра в школу, – пролепетала я дрожащим голосом.
Брови Нунчи грозно сдвинулись к переносице.
– Что ты там пищишь? Говори громче, чтобы я слышала!
– Ритта говорит, что не хочет больше ходить к фра Габриэле, – громко повторил Луиджи.
– Что за чушь! Ты думаешь, я даром сегодня ходила в монастырь? Я не позволю тебе больше бегать по деревне без дела!
В гневе она замахнулась на меня ложкой, будто собиралась ударить. Я втянула голову в плечи и, не выдержав, разревелась.
– Хватит шмыгать носом, глупая девчонка!
Нунча хлестнула меня полотенцем. Вскрикнув, я прижалась к локтю Антонио и горько заплакала ему в рукав. Брат поднялся из-за стола.
– Не трогай Ритту, бабушка, – сказал он твердым голосом. – Если она не хочет, то в школу больше не пойдет, и точка.
– С каких это пор ты стал тут приказывать? – взревела Нунча. Ее черные глаза гневно сверкали из-под белых бровей.
– С тех пор, как начал зарабатывать.
Винченцо тоже поднялся. Они с Антонио вносили такую долю в наше хозяйство, что без них мы бы наверняка умерли с голоду.
– Я хочу спать, – сказал Винченцо. – Ритта, завтра ты останешься дома. Тебе будет достаточно того, чему научит тебя Луиджино.
Я поняла, что победа осталась на моей стороне, и радостно улыбнулась сквозь слезы.
Нунча некоторое время смотрела на двух своих воспитанников, уже не в первый раз перечивших ей, и распалялась все больше и больше. Но делать ей все же было нечего. Она в гневе швырнула полотенце в угол, повернулась к нам широкой, мощной спиной и яростно зазвенела мисками, убирая посуду.
Антонио погладил меня по голове.
– Все в порядке, Ритта. Иди спать.
Я улеглась на топчан возле потухшего брачьери[13] и крепко прижалась к самому старшему брату, Джакомо. Возле него было так тепло и уютно… Джакомо спал, но, почувствовав мое прикосновение, проснулся. Его быстрые и проворные пальцы пробежали по моему лицу, стремясь «увидеть» меня, коснулись моих глаз, носа, щек, погладили волнистые волосы, ласково щекотнули шею… Джакомо был слеп. Когда ему было десять лет, он тяжело заболел. Болезнь закончилась слепотой… Сама я уже не помнила его зрячим. Он не годился ни на какую работу, кроме чтения молитв, которые знал так хорошо и много, что мог читать их два часа кряду без остановки.
Джакомо, темноволосый и стройный восемнадцатилетний юноша, был самым красивым из моих братьев, и даже несмотря на свою слепоту, нравился девушкам. Особенно красивы его глаза – темно-голубые, большие, в ореоле длинных черных ресниц. Лишь только темные зрачки были странно неподвижны и устремлены в одну точку. Джакомо был не такой смуглый, как все остальные в нашей семье, у него были изящные ласковые руки с чувствительными и длинными, как у гитариста, пальцами. Если бы он был одет побогаче и поизысканней, все непременно принимали бы его за настоящего синьора.
– Это я, Ритта, – прошептала я, прижимаясь губами к его щеке. – Мы только что с праздника. Джакомино, милый, расскажи сказку.