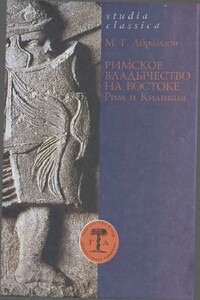Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции - страница 146
Но Готоман был подготовлен играть роль, в эпоху после резни, успел привлечь благосклонное внимание и расположение знати и в силу личных отношений. В его жизни, в его развитии, как и в условиях, при которых он выступил на арену общественной деятельности, было много сходно с Кальвином. Сын советника Парижского парламента, он, подобно Кальвину, предназначался к судебной деятельности и сделался даже адвокатом. Но то была деятельность менее всего способная удовлетворить пылкого, энергического юношу. Если эти вечные процессы, без конца идущие один за другим, эта сизифова работа, тянущаяся от утра до вечера и сегодня, как вчера и завтра, это вечное однообразие[1200], доводящее до изнурения, отталкивали Лопиталя, человека, правда, честолюбивого, но с мирными наклонностями, то могли ли они удовлетворить Готомана, у которого громадное честолюбие соединялось с ненасытимою жаждою деятельности, неустанным исканием борьбы? Лопиталь искал отдохновения в деревне, среди природы, в произведениях древности, Готоман не удовлетворился этим и бросился в житейский омут. Он оставил Парламент и процессы, оставил с тем чувством ненависти, которое не умерло в нем и после резни и которое он разделял с гугенотами и знатью, и стал искать в науке, в литературных занятиях, в преподавании того, чего нельзя было найти в стенах суда, в этом «царстве адвокатов». Доктор прав Орлеанского университета в восемнадцать лет, он в глазах отца являлся наиболее способным к судебной карьере и считался наследником его в качестве советника. И эти блестящие надежды теперь разрушались! Разрыв между отцом и сыном был полный. Готоман-сын нанес последний удар сохранившейся еще связи: геройская твердость кальвинистов, подвергнутых на Гревской площади мучительной смерти на медленном огне, произвела на него сильное впечатление, и он сам вступил в ряды последователей нового учения. Когда отец решительно отказался от сына, прекратил выдачу ему пособия, для молодого Готомана настала новая жизнь, исполненная борьбы, лишений и страданий, но вместе с тем такая, которая так соответствовала его натуре.
Еще в Париже он попробовал свои силы на кафедре; его слава как талантливого ученого открывала ему путь даже в заграничные университеты: его приглашали в Оксфорд, в германские университеты, в Лозанну. Иногда он принимал приглашения, но жить для науки и только наукою он был не в силах; его подвижная натура не давала ему покоя. Он перебывал в университетах: Орлеанском, Страсбургском, Лозаннском, Валенском, в Бурже; и везде его встречала сильная и горячая любовь и такая же ненависть. Но едва только открывалась арена для более широкой деятельности, едва только открывалась возможность войти в сношения с вождями партии, с знатью, играть роль, как он бросал все и уходил или к королю Наваррскому, или к принцу Конде в лагерь под Орлеаном. Его честолюбие находило здесь гораздо более полное удовлетворение, здесь он мог заправлять до некоторой степени ходом дел, мог давать советы, сюда и призывали его с этою целью. И здесь-то, среди знати и принцев, благодаря сношениям с ними, он и выработал ту склонность, ту симпатию к знати, которые он постоянно заявлял во все время своей деятельности, выработал и те политические мнения, которые представляют «смесь старых традиций о независимости французской аристократии с демократическим духом Библии и республиканским Греции и Рима». «Он пристрастился к этим мнениям, как пристрастился и к новой вере, отверг те теории общественного права, которые лица его профессии почерпали из изучения римских императорских законов, и с одинаковым отвращением относился и к абсолютной монархии, и к могуществу парламентов»