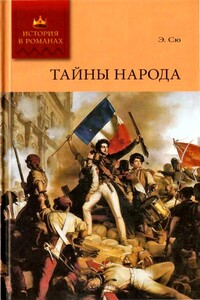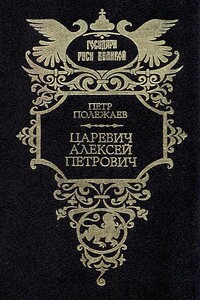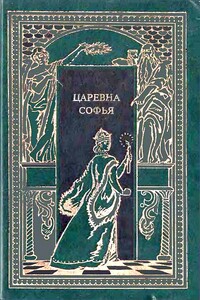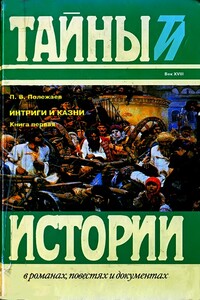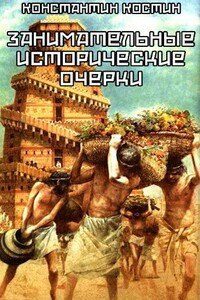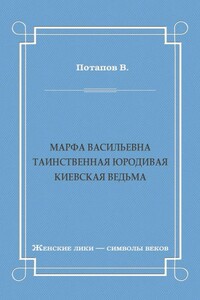– Ах, бедный мальчик! Бедный мальчик! А ведь золотое сердце! – с сокрушением ворчал Остерман, покачивая головою.
– До нынешней ночи, – продолжал граф, не обращая внимания на соболезнования вице-канцлера, – князю Ивану не удавалось, а может, даже и сам не хотел поднести государю духовную для подписи, а в эту ночь, вы говорите, Андрей Иванович, что не отходили от постели… Стало быть, духовная осталась только подложная. Понимаете, Андрей Иванович?
Но Андрей Иванович все продолжал повторять: «Ах, бедный, бедный мальчик, золотое сердце!» Только когда кончил граф свой рассказ, он с некоторою живостью спросил:
– А Василий Владимирович? Вы говорите, он остался в стороне?
– Фельдмаршал при самом начале совета высказал им наотрез: «Племянница Екатерина с государем не венчалась». А на это князь Алексей сказал: «Если не венчалась, так обручалась». – «Иное дело венчание, а иное обручение, – настаивал на своем фельдмаршал. – Хоть императрица Екатерина и была на престоле, так она была коронована самим государем, а кто же будет слушаться и повиноваться только обрученной? Врете вы, ребячье!» С этим Василий Владимирович и уехал с братом Михайлой.
– Так… так… – подтвердил Андрей Иванович. – Не любит господин подполковник>1 князя Алексея. И обручение-то было задумано против его воли.
– Так что же вы думаете относительно подложной духовной?
– Да ничего, граф, ровно ничего.
– Вы полагаете? Ведь семья Долгоруковых сильна, а особенно если к ним потянут Голицыны. Ловкий маневр – и, пожалуй, явится Екатерина II.
– Не явится, граф, – разговорился Остерман, – на это надо сильную и стойкую волю, какая была у Александра Даниловича, а у Долгоруковых, кроме спеси, ничего нет. Конечно, и они люди умные и даровитые, – спешил прибавить осторожный вице-канцлер, – да нет у них единодушия. Все они лезут врознь, готовы грызться друг с другом. Семья сварливая. Князь Алексей духовную и не представит.
– А Голицыны?
– У Голицыных вся сила в Дмитрии Михайловиче. Этот старик крепкий и держит всю семью в руках старого покроя. Да он к Долгоруковым не пойдет, не захочет быть под рукою у князя Алексея. Скорее бы уж он пошел к старой царице Евдокии Федоровне, если бы она была посильнее.
Граф Карл Густав вспомнил, что и сам Андрей Иванович недавно был не прочь сойтись со старою инокинею, но замечания своего не высказал, а только как будто про себя, мимоходом проговорил:
– Не одни Долгоруковы и инокиня, есть и другие наследники… Дочери Петра… цесаревна Елизавета и голштинские.
– Кстати напомнил, граф, об цесаревне. Еду я вот вчера поздно вечером во дворец на прощальную ночь к государю, еду по немощи своей тихонько и вижу – ночь-то такая светлая, как день, – насупротив меня скачет тройка во весь опор. Смотрю и думаю, кто это не боится сломать себе головы, а это сама цесаревна Елизавета изволит кататься с Иваном Бутурлиным. Длинная коса так и развевается из-под меховой шапочки. Красавица, загляденье цесаревна, да молода еще… только забавы да любовь на уме.
Граф Карл Густав зорко взглянул на Андрея Ивановича и улыбнулся, хотел что-то высказать, но остановился, подумал и спокойно проговорил:
– Понятно, Андрей Иванович, цесаревне жить еще хочется, сил много, придет время и для нее в свою очередь.
– Да… да… придет… конечно, придет, – ответил вице-канцлер и крепко задумался.
Не нарисовалась ли в это время в дальновидном уме русского немца будущая судьба бездетной Анны Иоанновны и своя незавидная горькая участь? Долго, может быть, продолжалось бы необычайная задумчивость, если бы не послышался резкий хрипловатый голос из соседней комнаты:
– Андрей Иванович! Андрей Иванович!
Встрепенулся Андрей Иванович при звуках этого слишком для него знакомого голоса сварливой своей супруги Марфы Ивановны и тревожно заторопился:
– Прощайте, государь мой граф, прощайте. Заговорились мы, а время поздно. Советую поторопиться, – и хозяин особенно подчеркнул это слово, – самым конфидентным способом известить милостивейшую государыню вашу и мою, Анну Иоанновну, обо всем, в чем сами известны, и поздравить.
Хозяин не договорил, да и не нужно было договаривать всего ловкому немцу Карлу Густаву, знавшему, с кем имел дело, понимавшему вполне с полуслова своего немца-собрата.