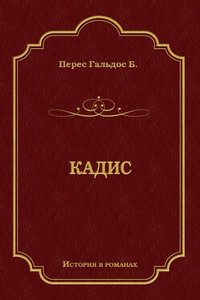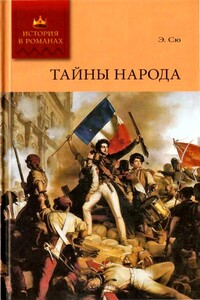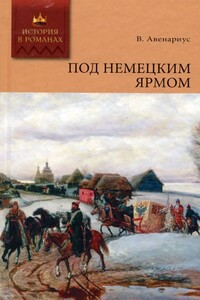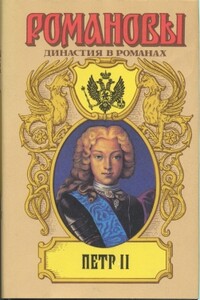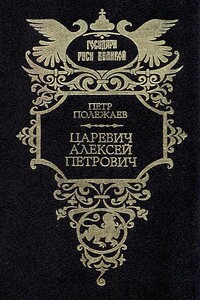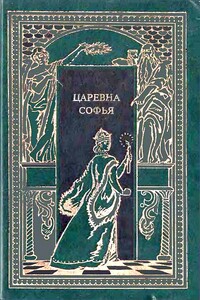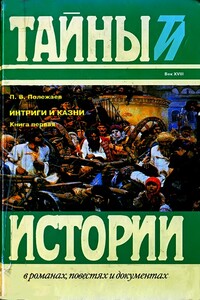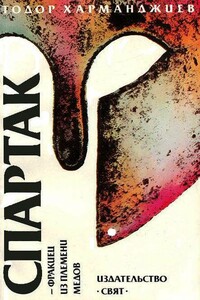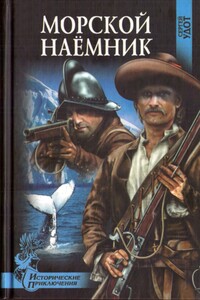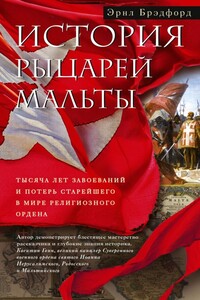Вторжение духовенства, этого нового элемента, и притом элемента враждебного, в совещания, почти что семейные, двух родовитых фамилий Долгоруковых и Голицыных, конечно, не согласовалось с их видами, а потому князь Василий Владимирович поспешил объявить архиереям, что собрание для совещания о престолонаследии назначено в дворце не прежде десяти часов утра. Оскорбленные иерархи ушли.
По уходе их начались шумные споры. Вопрос действительно выставлялся в первый раз в исторической жизни государства. Потомков царствующего дома по мужской линии по смерти Петра II не оставалось никого, а по женской линии, напротив, несколько лиц. По духовному завещанию Екатерины I на престол Российской империи более всех имел право сын покойной старшей дочери Петра Великого, Анны Петровны, – наследный принц Шлезвиг-Голштинский Карл Петр Ульрих, но воцарение этого еще ребенка-государя более всех других не могло нравиться русским вельможам. Оно, во-первых, ставило Россию в неприятные отношения с Данией за Шлезвиг, а во-вторых, угрожало наплывом голштинцев; а каковы были голштинцы, это могли знать русские по Бассевичу, насолившему и надоевшему всем в царствование Екатерины I. Поэтому, естественно, что кандидатура принца Карла Петра Ульриха провалилась почти по единогласному мнению.
Названо было кем-то имя второй дочери Петра, Елизаветы Петровны, но точно так же единогласно отвергнуто. Цесаревна так молода, так любит удовольствия. Выйдет замуж – бог знает кому придется кланяться, то выйдет еще хуже… Явятся фавориты неизвестно из какой среды, вроде Шубиных… пострадает амбиция старых родичей. «Царица-инокиня Евдокия Федоровна?» – высказал было Дмитрий Михайлович, да и сам одумался – стара, на ладан дышит; конечно, отсрочка, а все вопрос опять тот же, только будут ли еще они, верховники, после такой отсрочки в таком же авантаже, как теперь? И Евдокия отстранена. Остаются дочери Ивана, старшего брата Петра: Екатерина, Анна и Прасковья. Но Екатерина, бывшая замужем за герцогом Мекленбургским и уже лет десять как бросившая мужа, жила постоянно в Москве и не пользовалась общим расположением.
– А что же можно сказать против Анны Иоанновны? – спросил Василий Лукич Долгоруков, как видно забывший о им же самим диктованной духовной или рассчитавший, что возвышение семьи князя Алексея не принесет ему личного интереса.
Возражений не высказано – значит, выбор удовлетворял всем ожиданиям. Да иначе и быть не могло. Анна Иоанновна была вдова, нестара, но и не в таких, однако же, летах, чтобы можно было опасаться нового замужества. Живя в Митаве, как герцогиня Курляндская, она не прерывала тесных отношений с русским двором, имела при нем своего постоянного агента, временно наезжала сама и была ко всем так ласкова, да и не только ласкова, а, нуждаясь постоянно в деньгах и подарках, ко всем влиятельным лицам относилась всегда искательно и предупредительно. Правда, говорили про ее интимные отношения, про влияние Бестужева и фаворита, какого-то Бирона, но эти лица не казались опасными. Сам Бестужев не имел партии, друзья его все разосланы, а проходимца немецкого фаворита можно было бы и не пускать в Россию. Разве нельзя было заменить немца и получить фавор кому-нибудь из партии верховников! Сам Василий Лукич, предложивший в императрицы Анну, в бытность свою два года назад в Митаве разве не пользовался ее благосклонностью? И разве не мог надеяться на продолжение такой же благосклонности? Наконец, думалось и то, что всем обязанная им и чувствуя свою женскую неопытность в правительственных делах в такой обширной империи, она по необходимости должна будет держаться их и согласиться на все их требования. Познакомившись сначала из подневольных петровских путешествий за наукою и из более участившихся посольских пересылок, а потом и из собственной книжной начитанности с порядками чужих краев, в особенности Швеции, русским родовитым фамилиям захотелось пересадить и на родную почву те же порядки, обеспечивающие их от произвольных опал и ссылок, а подчас и более чувствительных дисграций. Под влиянием таких-то соображений и произошло то, что когда произнеслось имя Анны Иоанновны, то, по свидетельству современника Феофана Прокоповича, «тотчас чудное всех явилось согласие».