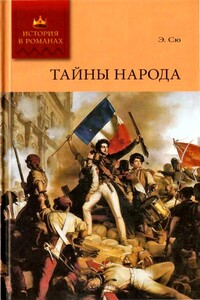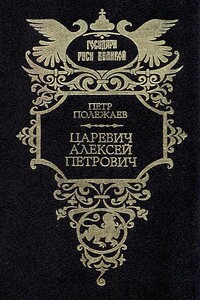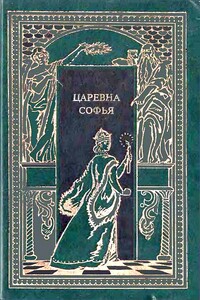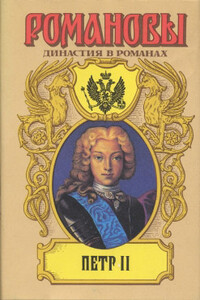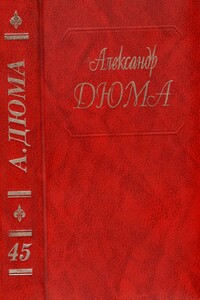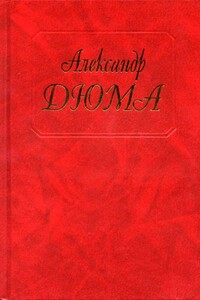Фавор и опала. Лопухинское дело - страница 41
С полночи дыхание сделалось затруднительнее, хрипение чаще и резче, беспамятство и забытье продолжительнее. Больной тоскливо метался, раскидывая руками и запрокидывая голову; воспаленные глаза то широко раскрывались и бессмысленно обводили присутствовавших, то закрывались. Больной лепетал какие-то бессвязные звуки, между которыми можно было, однако же, ясно различить имена Андрея Ивановича и покойной сестры, которую он так любил. Наконец порывистые движения стали ослабевать, больной как будто успокоился, дыхание сделалось ровнее, казалось, он заснул. Но это спокойствие продолжалось недолго. Как будто электрический ток пробежал по организму, члены дрогнули и конвульсивно сжались, государь быстро приподнялся и проговорил громко и отчетливо:
– Скорей запрягайте сани, хочу поехать к сестре!
И он действительно уехал к сестре. С последним словом голова запрокинулась и вытянулись члены.
Доктор взял руку, ощупал пульс, внимательно всмотрелся в тусклые, остановившиеся зрачки и торжественно объявил:
– Все кончено. Государь скончался!
Все перекрестились. Было три четверти первого.
Земное величие, приравнявшись со всеми бедными и убогими, не требовало уже ни восхвалений, ни поклонений. Их заменили общая для всех торжественность и сила смерти.
Тихо, как будто боясь потревожить покой усопшего, стали выходить присутствовавшие из комнаты. К барону Андрею Ивановичу подошел князь Алексей Григорьевич.
– Там… во дворце… – и Алексей Григорьевич махнул рукою, – собрались, Андрей Иванович. Надобно решить теперь, кому быть на царстве. Воля покойного государя…
– Не мне, слепому и беспомощному, решать, Алексей Григорьевич, кому следует быть на царстве. Не мое это дело. Вот и теперь… кха… кха… кха… ты намекнул на волю государя, а мне она неизвестна… Да и где мне слышать, когда я не выезжал никуда.
– Пойдем же, Андрей Иванович, – продолжал настаивать князь Алексей Григорьевич, – я тебе все передам как воспитателю покойного и российскому вице-канцлеру…
– Идти не могу, видит бог, не могу, Алексей Григорьевич, сил нет. Принесли меня сюда в великих страданиях по желанию покойного моего государя да по твоему наказу… А больше быть мне здесь невмочь…
– Как же голос твой, Андрей Иванович, в какую надо считать его сторону?
– Голос мой, Алексей Григорьевич! Да какой же у меня, больного и расслабленного, голос? Где большинство, там и мой голос. Я что – пришелец-иностранец… Вам, родовитым, старинным русским фамилиям, принадлежит решение, а мне только повиноваться вашему избранию.
И Андрей Иванович еще более закряхтел и заморгал глазами, еще сильнее и мучительнее сделался припадок подагры. Со стонами и оханьями его снесли к экипажу, уложили в сани и повезли домой.
Князь Алексей Григорьевич остался, видимо, очень доволен разговором с вице-канцлером. «С этим не будет хлопот, – думал он, – с Головкиным тоже, думаю, уладится, а кто бы и вздумал против, так можно и пугнуть…»
Однако бессонные ночи и постоянное тревожное состояние отозвались и на нем самом. Чувствуя себя не в силах, он и сам уехал домой отдохнуть и сообразиться до формального заседания государственного собрания.
Между тем захудалые лошадки благополучно довезли домой больного Андрея Ивановича, на которого свежий ночной воздух подействовал живительно. Не слышалось от него во всю дорогу ни стонов, ни жалоб, даже довольная усмешка пробежала по губам, когда его зоркие глазки заметили на дворе его дома стоявший экипаж. Довольно бодро, судя по летам, вошел подагрик по ступеням лестницы в прихожую, без затруднений снял верхнюю меховую шубу, и только в приемной, где его обдало слишком нагретым воздухом, он почувствовал себя снова нездоровым; по обыкновению, закряхтел он, и по привычке заволочились ноги при проходе через приемную в кабинет.