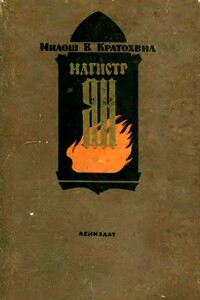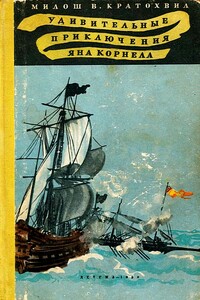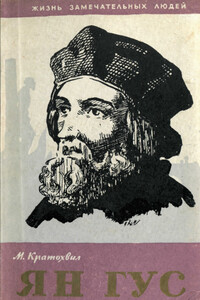Здесь и заканчивалось путешествие императорского гвардейца.
На зов облаченного в ливрею швейцара поспешно явился какой-то штатский — он не поздоровался с гвардейцем, а гвардеец не поздоровался с ним — и взял у нарочного портфель, с которым, уже пустым, вскоре вернулся. Всадник прямо-таки физически ощущал, как слетает с него вся его недавняя величественность. Швейцар в своем достающем до самого пола облачении смотрел куда-то мимо гвардейца, а тот, со своей стороны, равнодушным взглядом скользил сверху вниз по двум рядам блестящих золотистых пуговиц на швейцарской ливрее. Друг перед другом маячили две униформы, уже давно примелькавшиеся и надоевшие одна другой.
Чувство, которое Беденкович всякий раз испытывал, снимая в дворцовых казармах после дежурства гвардейский мундир и надевая будничную униформу пехотинца, было похоже на отрезвление. Унтерские лычки и даже сабля, которую полагается носить фельдфебелям, дела не меняли. По сравнению с гвардейской сабля пехотинца тускла, как жестянка, а бахрома черно-желтого темляка стянута туго-натуго, прямо узел какой-то.
Вот если бы можно было как-нибудь…
Беденкович понимал, что желание это нелепо, неисполнимо и все же иногда позволял себе хотя бы пофантазировать о том, как однажды ему представится случай появиться во всем своем гвардейском великолепии дома! При этом он имел в виду не Билополье — там это вроде как потеряло бы всякий смысл, для жителей Билополья это было бы уж чересчур, как если бы… как если бы туда пожаловал архангел или царь, и еще неизвестно, поверили ли бы билопольцы, что под всем этим золотом действительно он, Бранко, сын Милорада… Другое дело приехать как-нибудь, разумеется верхом на коне, в район Оттакринга, на улицу Менделя, к дому двадцать три; немного подождать, пока все окна от бельэтажа до третьего этажа заполнят зеваки, и только после этого спрыгнуть с лошади, да так, чтобы сабля хорошенько звякнула, а к тому времени выищется не один мальчишка, который будет счастлив тем, что ему позволят подержать лошадь господина гвардейца; а сам он будет уже подниматься по лестнице, топая так, чтобы шпоры звенели; и все двери приоткрылись бы, и оттуда выглядывали бы глаза — у Лефлеров, Матушков, Гассеров…
Потом он позвонит, и ему откроет дверь Герта. Только теперь и тут она увидит, какой он высокий в своем кивере — чтобы войти, ему придется даже наклонить голову. А вслед ему шуршит шушуканье соседей, а его белоснежный плюмаж из конского волоса и золото мундира еще ярче сияют на тусклом фоне коридора с замызганными стенами и давно выцветшей росписью, над темной воронкой винтовой лестницы.
Герта, конечно, уже видела его в парадной униформе. Как же иначе — еще до свадьбы! Он ей сказал, когда будет дежурить в воротах Швейцарской стены императорского замка, и она тогда долго стояла, разумеется, на приличествующем расстоянии, и смотрела на него. А после свадьбы, когда родился Пауль и когда ему исполнилось два года, она взяла с собой и его. Но все это было не то — там, на глазах у других гвардейцев, и вообще в замке… На плацу то и дело происходила смена караула, оркестр начинал играть марш, словом, все что-то отвлекало. А вот дома, на улице Менцеля… только там стало бы по-настоящему ясно, что он собой представляет!
Это не помешало бы. Ничуть не помешало бы. Наоборот. Хотя вообще-то он не может пожаловаться, чтобы кто-то в их доме с ним не считался. Вовсе нет. Там все всё знают обо всех, известно и о нем, какое высокое положение он занимает. Но впечатление, которое он мог бы произвести, если бы они увидели собственными глазами… Это совсем другое дело.
Не перестал ли дождь? Надеть казенные сапоги или собственные башмаки — выходные, шикарные?
Когда он обувался, у него лопнул шнурок.
Он чертыхнулся. Собственно, вывел его из себя не шнурок, он разозлился на dienstreglamд{[19]}, который строго-настрого предписывает гвардейцу вне службы носить в обязательном порядке заурядную пехотную форму.