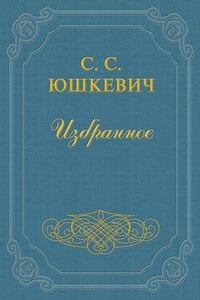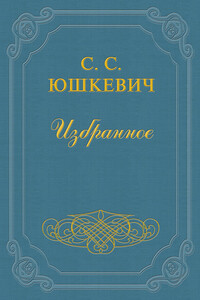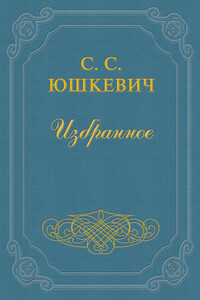– Довольно, – попросил Нахман, – я свалился бы гораздо скорее тебя…
– Теперь мне дали чистую отставку, – усмехнулся Натан.
Оба замолчали и долго глядели на луну. Она шла тихо, тихо по небу и как бы передвигала тени на земле, чтобы ей удобно было видеть все, что внизу. Но что-то бесконечно доброе лежало на ее круглом лице, в ее человеческой улыбке. И только темная кайма губ была искривлена набок, как будто от сострадания.
– Поговорим о тебе, – произнес Натан, – я конченный человек… Завтра пойду в больницу, может быть, навсегда. Странно, – вдруг выговорил он, – как далеки наши мечты. Помнишь вечера на «том» дворе?
– Да, да, – подхватил Нахман, обрадованный этим вопросом, – я и сам не понимаю, что произошло с нами. Я теряюсь Натан… Я спрашиваю себя: чего я хочу? Может быть, я знаю… но как сделать? Не знаю, Натан, не знаю. Столько загадок кругом… Меня окружают горы людей, мне тяжело их носить…
– Горы людей, – шепотом повторил Натан.
– Да, да, горы. Вот видишь этот двор? Ступай из комнаты в комнату, ты услышишь все стоны, какие может издать человек. Ступай из дома в дом, ты услышишь худшее. Я весь день с ними, весь день, Натан!..
Он замолчал подавленный. Как будто ток прошел между обоими и соединил их.
– Нахман! – тихо произнес Натан.
– Что Натан?
– Смерть лучше жизни. Клянусь тебе!..
Мейта показалась на пороге и громко сказала:
– Ему пора спать, Нахман. Я все приготовила в комнате.
– Хорошо, хорошо, – засуетился Натан, – я падаю с ног.
– Я еще посижу, Натан. Мейта тебе покажет, где лечь. Спокойной ночи!
Натан скрылся в комнате; Нахман остался один и в скорбном недоумении сидел, опустив голову на руки.
Шорох раздался сзади него.
– Это вы, Мейта? – произнес он, не оборачиваясь.
– Да я, Нахман. Натан уже спит.
– Сядьте возле меня… Что вы думаете о нем?
– Я думаю, что он не будет жить.
– Не будет жить, – с сожалением повторил он, будто хоронил что-то родное.
– Он хороший, Нахман, хороший, дорогой…
– Если спрашиваешь, и нет ответа, – не слушая, произнес Нахман, – нужно погибнуть.
Он замолчал, смутно чувствуя, что с ним происходит что-то важное.
Мейта сидела рядом и тихо дрожала от его близости. Она не смела взглянуть на него, но чувствовала его всего, как будто держала на руках и прижимала к сердцу. И словно ждала одного слова, чтобы предаться ему.
– Вы говорили с Фейгой? – опять раздался его голос.
– Я говорила, Нахман. Она мученица…
– Ну да, – с усилием проговорил он, – мы все тут похожи на людей, которые стоят у высокой стеклянной стены и хотят взобраться на нее. Знаете, – жена Хаима умирает…
Она близко придвинулась к нему, испугавшись мысли о смерти, и он стал ей рассказывать о несчастной женщине. И оттого, что она почувствовала теплоту его плеч, прижимавшихся к ней, – у нее закружилась голова.
– Нахман! – замирая, шепнула она.
Он живо обернулся к ней и, кивая головой, как будто говорил: нет, со страхом ждал.
– Нахман, Нахман! – повторила она…
– Ты еще не спишь? – неожиданно раздался подле них голос Чарны.
Девушка испуганно вскрикнула, а Нахман сердечно сказал:
– Мейта…
– Ложись, моя кошечка, – с нежностью просила Чарна, – ночь уже побледнела, а подняться нужно рано. Ложись, моя работница.
Мейта покорно встала и скрылась с матерью в комнате. А Нахман еще долго сидел, думал о Натане, о Мейте… о людях, и с лица его не сходило скорбное недоумение…
Рассветало…
Понадобился целый месяц хлопот и тревог, чтобы поместить Натана в больницу. На дворе уже стояла глубокая осень, – больница была переполнена больными, и только благодаря Шлойме, который был знаком с больничным фельдшером, удалось устранить все преграды.
В рядах, не умолкая, раздавался сдержанный стон, и мучительным кошмаром протекало время; страшная осень требовала напряжения всех сил, чтобы не свалиться. Те первые дни опьянения собственностью, когда Нахману все казалось гладким впереди и можно было полноправно распоряжаться своей жизнью, своим досугом, своими желаниями, – те дни скоро прошли. И то, что собственные деньги давно разошлись, а товар всегда нужно было покупать в кредит, постепенно превратило его в истинного торговца, запутанного, замученного… В рядах между тем пропали звонкие голоса, пропали люди, радость оживления, и торговцы в своих теплых рваных одеждах сидели теперь нахохлившись, как хмурые птицы. И когда начинало дождить, ничего несчастнее, беспомощнее этих людей нельзя было себе представить. Они бегали вокруг своих корзин, торопливо, с испуганными лицами, издавая стоны отчаяния, защищали их огромными дырявыми зонтиками, сами прятались в подворотнях, в лавках, если им разрешали, и, глядя на них, казалось странным, непонятным, почему другие люди могли сидеть в своих теплых сухих комнатах, могли без ужаса и страха ходить по своим делам, а эти должны были оставаться здесь и бороться с природой. Понять невозможно было, почему так кротко они переносили свою судьбу?