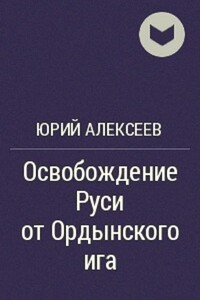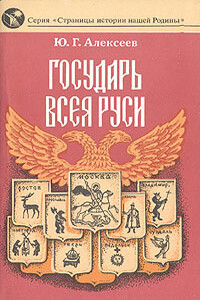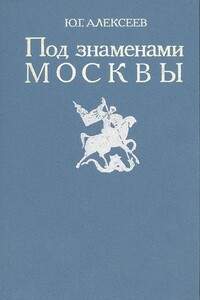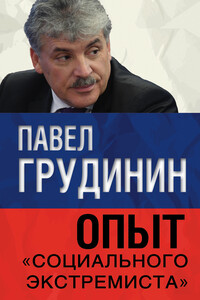Однако посмеяться удавалось редко. Больше причин было для тревоги и беспокойства, чем для веселья. Фракционные группы внутри ВКП(б) развернули борьбу, пытаясь расшатать партию и сверпуть ее с избранного пути. Активизировали свою борьбу против СССР антисоветские элементы внутри страны и зарубежпые эмигрантские центры.
В 1928 году, оставив семилетнего Сашу и трехлетнюю Таню на попечение Павлы Ивановны, Чудаковы отправились в первое после свадебного совместное путешествие. Три недели свободного времени обещали замечательный отдых. Санаториев в то время были единицы на всю страну, домов отдыха — еще меньше, а организованных групповых туристических поездок не знали вовсе. Вера Васильевна и Евгений Алексеевич поехали на юг «дикарями». От Москвы до Кавказа ехали поездом, потом по Военно-Грузинской дороге направились к Тифлис, оттуда — в Батум, из Батума пароходом — в Сухум. При высадке с парохода случилась обычная в то время история — у Евгения Алексеевича украли бумажник с деньгами и документами. Уцелели только 30 рублей, лежавшие отдельно в заднем кармане брюк.
Чудаковы, однако, печалились недолго. Дали телеграмму в Москву. В конечном пункте морского путешествия их ждал перевод. Очарованные солнцем, морем, великолепной зеленью субтропиков, они принялись лазать, не жалея сил, по городским окрестностям, взбираться в горы, стараясь не упустить ничего интересного, все достопримечательности увидеть воочию, потрогать собственными руками.
Во время одного из таких походов, измученные жаждой, Чудаковы остановились передохнуть у какого-то барака. Евгений Алексеевич зашел вовнутрь, увидел бак с водой, кружку. Позвал Веру попить. К немалому удивлению Евгения Алексеевича жена принялась его отговаривать. Уверяла, что нельзя на юге пить воду, не зная, откуда она. Евгений Алексеевич не принял этих опасений всерьез, посмеялся даже: «Какова реакция городской барышни на один только вид ведра с кружкой!» Но добавил, что конечно же не надо заставлять себя делать то, чего боишься. В конце концов оба напились из ведра и, ощутив прилив сил, продолжили прогулку.
Через неделю Евгений Алексеевич потерял аппетит, сон. Начала подниматься температура. Днем позже те же ощущения стала испытывать и Вера Васильевна. Врачи поставили диагноз — брюшной тиф. Чудаковы попали в инфекционную больницу.
В то время не было ни антибиотиков, ни сульфаниламидов, и лечение тифа было делом долгим и сложным. Прошло много недель, прежде чем жизни Веры Васильевны и Евгения Алексеевича оказались вне опасности. Но и долгое время спустя Чудаков ощущал последствия заболевания — требовалось соблюдать диету, не было уже той физической легкости, уверенности в своих силах, которые он до тех пор привык считать само собой резумеющимися, данными ему навеки родной землей, свежим воздухом, всем здоровым складом обстановки, в которой он рос.
Несмотря на болезнь, Чудаков продолжал работать. Как только спала температура, а руки смогли держать карандаш и бумагу, Евгений Алексеевич принялся за разработку новых разделов теории и конструкции автомобиля. Уж он-то прекрасно понимал, как необходима вырастающему на руинах старого мира молодому советскому машиностроению наука строить автомобили.
К 1929 году успехи советской промышленности вынуждены были признать даже самые закоренелые зарубежные скептики. Продукция машиностроения в 1928 году почти вдвое превысила уровень 1913 года. Удельный вес социалистического сектора в валовой продукции промышленности достиг 82,4 процента. Мощность электростанций почти втрое превосходила мощность электростанций дореволюционной России. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился вдвое.
В мае 1929 года V съезд Советов СССР утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства страны, вошедший в историю как крупнейший этап индустриализации СССР. За пятилетку предусматривалось увеличить общий объем промышленной продукции в 1,5 раза, а машиностроения — в 3,5 раза. Перед техническими специалистами открывались огромные перспективы, вставали новые, весьма нелегкие задачи.
Если в первые послереволюционные месяцы и годы надо было любой ценой «давать количество», то теперь нужно было решать проблемы качества технической продукции. Нельзя уже было довольствоваться тем, что в СССР выпускались собственные грузовые и легковые автомобили. Надо было, увеличивая их выпуск, довести машины до высокого технического совершенства, обеспечить им низкую стоимость в производстве и эксплуатации. Прошли времена восторженных эмоций: «Первый отечественный!», «Сам едет!», «Тысяча километров без поломок!».