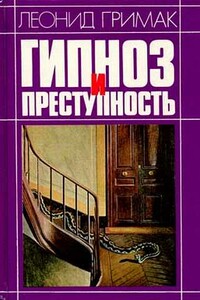Многие семьи, пережившие трагические и болезненные события, стремятся похоронить прошлое. Полагая, что лучше не подвергать детей ненужной боли, родители часто не рассказывают о них, тем самым держа дверь в прошлое плотно закрытой. Они думают, что чем меньше ребенок знает, тем больше он защищен. Прак ничего не знал о Полях смерти, об убийстве и, что хуже всего, ничего не знал про деда. Ему даже сказали, что второй муж бабушки и есть его дедушка.
К сожалению, замалчивание прошлого отнюдь не защищает последующие поколения. То, что скрыто от глаз и ума, редко исчезает. Наоборот, оно часто проявляет себя в поведении и симптоматике наших детей.
Объяснить эти концепции Риту и Сите было непросто. Словно некая культурная пелена, завеса отрицания препятствовала любому обсуждению геноцида. «Мы смотрим только вперед, мы не возвращаемся к прошлому», – говорила Сита. «Нам повезло, что мы выжили и оказались в Америке», – говорил Рит. Так было до тех пор, пока я не объяснил им, что прошлое живо и явным образом проявило себя в Праке и его страданиях. Только тогда Рит и Сита согласились предпринять следующие шаги.
«Идите домой и расскажите Праку о своем отце, – сказал я Риту. – Скажите ему, как сильно вы любили его и как до сих пор скучаете по нему. Поставьте фотографию дедушки – настоящего дедушки – около его кровати и скажите, что он защищает и благословляет его и гладит по голове, пока он спит. Дайте ему образ деда и убеждение, что раз тот благословляет его и гладит голову, ему больше не нужно ранить ее».
К сожалению, замалчивание прошлого отнюдь не защищает последующие поколения. То, что скрыто от глаз и ума, редко исчезает. Наоборот, оно часто проявляет себя в поведении и симптоматике наших детей.
Выполнить последний шаг оказалось наиболее трудным. Я понял, что Прак ассоциирует себя не только с дедом, но и с убийцей, нанесшим смертельный удар. Я объяснил Риту и Сите, что те, кто причинил семье зло, также принадлежат семейной системе, и что мы можем ассоциировать себя с ними, если они были исключены из области осознания. Я объяснил им, что дети и жертв, и преступников страдают одинаково, и что мы должны сохранять доброжелательное отношение ко всем участникам драмы. Когда мы сможем молиться равно и за тех, кто причинил зло нашей семье, и за тех, кто пострадал, это даст огромную поддержку и детям, и детям наших детей. Сита и Рит поняли. Будучи практикующими буддистами, они сказали, что возьмут Прака в пагоду – камбоджийский храм – и зажгут благовония в честь отца Рита, а также за его убийцу, чтобы потомки обеих семей стали свободными. Через три недели после того, как Прак посетил пагоду и фотография дедушки у кровати стала защищать его по ночам, он вручил вешалку матери со словами: «Мама, мне больше не нужно с этим играть».
Боль и молчание семьи
Гретхен, которую вы раньше уже встречали на страницах книги, носила в себе тревоги бабушки, единственной из семьи, кто выжил в Аушвице. Не в состоянии воспринять полученный дар жизни после ужасов холокоста, бабушка Гретхен, скорее, существовала и походила на приведение. А дети и внуки ходили на цыпочках вокруг нее, чтобы ничем не расстроить.
С ней невозможно было поговорить о погибшей семье. Ее глаза устремлялись куда-то вдаль, а щеки бледнели. Лучше было не тревожить ее воспоминаний. Возможно, подсознательно она хотела умереть так же, как и ее родные. Два поколения спустя, Гретхен унаследует эти чувства и образ того, что она хочет испариться, как испарились родители и братья бабушки.
Ключевой язык Гретхен: «Я хочу испариться. Мое тело в секунды превратится в пепел».
Как только она осознала, что сплелась с травмой бабушки, у Гретхен появился контекст, в котором она смогла понять обуревавшие ее чувства. Я попросил ее закрыть глаза и представить себе, как ее качают на руках бабушка и все члены ее еврейской семьи, которых она даже не знала. Во время этого упражнения Гретхен сказала, что чувствует мир в своей душе – чувство, которое ей было до того неведомо. Она осознала, что ее желание превратиться в пепел связано с родственниками, которых буквально сожгли заживо. В этот момент желание убить себя ушло; она больше не чувствовала, что ей нужно умереть.