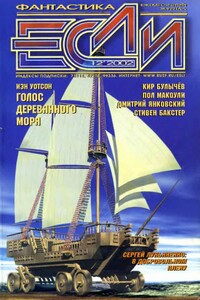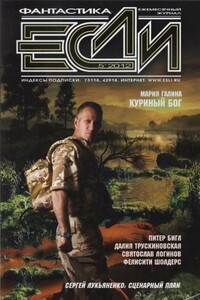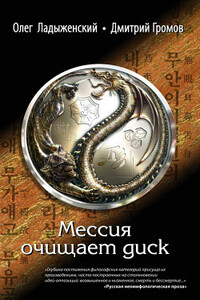Но не сегодня. В ком я вовремя не распознал врага, так это в Рэйчел. В этом доме она чувствует себя законсервированной, сказала Рэйчел. Два чемодана, такси, очки и шарф, прикрывающий с утонченной женственностью волосы — родом из сороковых, когда женщины умели красиво плакать и красиво уходить. Она обосновалась на Ривьере, где лето удовлетворяло ее тягу к воздуху, свету и обществу, а средиземноморская зима — естественную для человека потребность в одиночестве. Шелестящий голос в телефонной трубке, дважды в год, на Рождество и в день рождения, сообщавший мне, кто женился и кто чем болен. Новости, которые я даже не хотел знать. Смешная обреченная попытка перебросить между нашими островами паутинно тонкие мосты.
Моим оставался тут лишь дом. Глядя друг на друга, мы лелеяли обоюдную гордыню.
Слишком много мыслей для одной лестницы. Раньше, с более легкой головой, я взлетал по ней в несколько секунд.
Дверь библиотеки — дальняя по коридору. В этом есть смысл: не достигают шумы из гостиной. Иду туда, простукивая перед собой каждый шаг, налегаю на бронзовую ручку — она тугая, а дверь тяжела. Перешагиваю порог, как всегда, с чувством мрачноватого удовлетворения. Библиотека — мое логово. Сердце мое принадлежит черному дубу.
Здесь темно. Ну, не настолько, конечно, чтобы вовсе глаз выколи. Вдоль стен и до самого потолка — высокие застекленные шкафы. Во всю высоту противоположной от входа стены — узкая балконная дверь «французское окно». Всего света — щель между портьерами, яркая от свежего снега. Книгам вреден солнечный свет. В особенности — старым книгам. Шкафы прикреплены к стене, поперек — два полированных полоза, по которым перемещается лестница: один на высоте двух футов от пола, другой на высоте семи, почти вплотную к стеклам. Лестница, таким образом, наклонена ровно настолько, чтобы вектор действия силы тяжести оставался правильным. Классическая английская библиотека, как сказала Рэйчел, появившаяся здесь с суровым выражением лица, исполненная желания доказать моему отцу, что никто не печатает чище ее. Классическая настолько, что теперь таких в об-щем-то и не бывает. Я в тот день как раз отдирал бумагу, которой были крест-накрест заклеены окна. Студентов нашей специальности в армию не брали, и я просидел эти годы, сжав кулаки и стиснув зубы, согласно графику обходя улицы в составе патруля гражданской обороны и сходя с ума от ощущения крошечности и хрустальной хрупкости центра империи, которая до сих пор казалась вросшей корнями в самый центр земли. Мой вклад в обустройство берлоги выразился в установке компьютера на столе. С тех пор как перестал пользоваться услугами безграмотных наемных секретарш, я осознал, что проще исправить ошибку в памяти, не набивая текст заново и не комкая неудачный лист. Как раз сегодня я собирался дополнить лекции из подборки материалов, присланных Джимом из Макгиллского университета Монреаля. Я нажал кнопку «Power», включил монитор и подошел раздвинуть портьеры.
Сначала я подумал, что по ошибке надел не те очки. Или вовсе забыл надеть их. Пыль, парящая в узком солнечном луче, выглядела не как обычное мелкое, играющее алмазными гранями крошево. Она вообще не выглядела как пыль. Сказать по правде, это были настоящие хлопья, светящиеся по краям и хаотически перемещающиеся в столбе света. Я снял очки и протер, попутно убедившись в их наличии. Спускаться за ними вниз было бы немыслимо. Потом водрузил их себе на нос. Потом задумался о звонке в ректорат на предмет кандидатуры студента, который за несколько фунтов в неделю и сладкую мечту о послаблении на моих экзаменах согласился бы пройтись здесь влажной тряпкой. С Нового года, желательно раз в неделю. Последнего я уволил как раз перед наступлением рождественских каникул, когда застал его при попытке пройтись по корешкам драгоценных книг пылесосом. Убивая в прах свои последние надежды, парень кричал, что в этом доме-музее согласится работать только музейный работник, да и то не всякий, а только исключительный фанатик своего дела. К калитке он шествовал, приседая, разводя руками и на разные лады издевательски приговаривая: «Метелочка для пыли!»