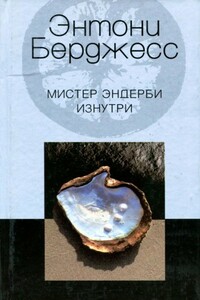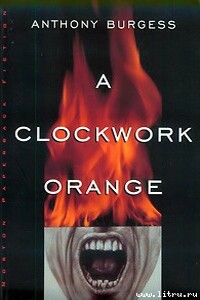(Крови, идей) нужны трубы, а трубы имеют прямую конфигурацию,
Словно батоны, подаренные Церерой,
которой смешно…
Сложная, в высшей степени требовательная форма. Наркоманам из Псиной Тошниловки вообще беспокоиться не о чем: в свободно распахнутом потоке подсознания никаких октав и секстетов. Конечно, куча чертовой белиберды, однако от новых сомнений в себе не отделаться. Что касается чтения, можно робко заглядывать краешком глаза в заграничные газеты, оставленные на столиках в открытых кафе: кажется, ничего нету про Йода Крузи.
И тут он услышал за «Рифом» тех самых мужчин, громко толкующих про кого-то, кем мог быть один Уопеншо. Привратник коммерческого заведения «Турецкие сласти» свистал для них такси со стоянки напротив «Мирамара». Тем временем мужчина с торчавшим пузом, на котором без ремня держались длинные шорты, сказал другому (оба с выскобленными, как бы выбритыми пальцами-лопатками):
— Сердце. Позволил себе из-за чего-то расстроиться.
А когда они садились в свое petit taxi, taxi chico[121], другой, постарше, но тонкий и прочный, как хирургический инструмент, сказал:
— И проваливай, пойди побрейся, — вручив Эндерби монетку в пятьдесят сантимов.
— Аллах.
Возмездие, справедливость: вот что это такое. Послужит Уопеншо хорошим уроком. Он усмехнулся, а потом увидел отражение своей усмешки в стеклянных дверях «Рифа», в спине толстой женщины в черном комбинезоне, временно составлявшей тыльную часть зеркала. Вид вполне жуткий — беззубая, лишенная всяких рамок физиономия выглядывает из пещеры капуцинского капюшона. Седых усов не видно, но можно пощупать: шррр-шррр. Эндерби в ужасе ухмылялся.
Тут с громким выговором подошел другой нищий, крепкий, настоящий. Он сидел у входа в гараж при отеле, и теперь, завидев ухмылку, поднялся с упреком на недостаточно серьезное отношение к делу. Он был темней Эндерби, скорее бербер, с полным набором зубов. С отвращением заскрежетал ими, толкнул Эндерби в грудь.
— Руки прочь, — крикнул тот, и приезжий в костюме с Палм-Бич с изумлением оглянулся на британский акцент. — Проваливай, — добавил Эндерби, готовясь дать ответный толчок. Только осторожнее, осторожнее; допустимо лишь респектабельное нищенство: может явиться сообразительная полиция. Потом стало ясно, в чем проблема: борьба за место.
— Иблис, — мягко обругал Эндерби коллегу или соперника. — Шайтан. Африт[122]. — Эти слова он выучил у Али Фатхи. А когда подлинный нищий принялся обзывать его не столь теологическими понятиями, довольно резво перешел через дорогу. В любом случае, может быть, надо чаще рыскать по берегу, особенно в сегменте близ «Акантиладо Верде», пусть даже там очень много раздетых, закрывших одежду в кабинках, которые лишь усмехаются добродушно (гораздо приятней, чем Эндерби), показывают пустые ладони, да, когда речь идет о мужчинах, полные одних волос подмышки.
Ресторанная часть заведения Роуклиффа была застекленной, как обсерватория. Редкие едоки потели над едой, подаваемой дружелюбным негроидным парнем в фартуке и в феске. Эндерби робко щурился в открытые окна, но, кажется, Роуклиффа еще не было. Следовало оправдать подглядывание, протягивая руку за подаянием, и в первый день нового падения он получил в лапу расплющенный сандвич с яйцом и салатом. Подаяние, покаяние. Стих? Получал и мелкую монету от посетителей, расплачивавшихся по счетам, главным образом немцев, нуждавшихся в существенной выпивке между блюдами.
Последние два дня приносили достаточно, прекрасная погода держалась. Топча песок, на котором море, умный зеленый ребенок, никогда, впрочем, не превышающее уровня детской разумности, лепило свои волны, Эндерби дышал солью, йодом, ребяческим морским подарком — лишними молекулами кислорода; думал со спокойной тоской о старых временах: ведерко с лопаткой, с визгом улепетывающие от медузы ноги, офицерские портупеи водорослей, имперское орденское достоинство морской звезды (пузо торчит, как у толковавшего про Уопеншо мужчины, грудь втянута, чтоб удержать награду). И «Акантиладо Верде» напоминало ему о последних днях у моря, полных предательства, совсем пропащих.