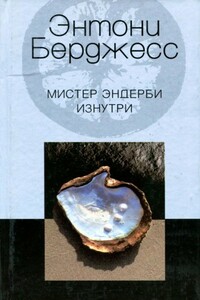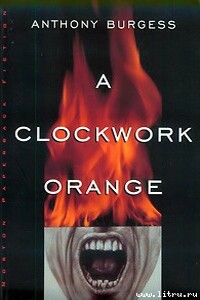— Гомес. Билли Гомес. — Слегка смахивает на грызуна, значит, сразу дернулся Эндерби, возможно, опасен. Но в каком контексте? Гомес всплеснул руками, как мультипликационная мышь в припадке самоуничижения. Он был в грязном белом барменском пиджаке, однако без галстука. И кажется, в теннисных туфлях.
— А. — Внезапно вновь высветилась вторая структурная неотложность. Могучая, как крепостная, увитая плющом башня, она разнесла темноту, обезглавила с медным звоном. — Sí, — сказал Эндерби. — Su hermano[110]. Я хочу сказать, в Лондоне. Mi amigo[111]. Или, лучше сказать, коллега. Он мне что-нибудь прислал? — В том сонете заключен сонет Вордсворта. Ключ превращается в лютню, в фанфару. Он сунул книжку в боковой карман. Тяжесть грязного предательства стала, как ни странно, отточенным орудием мести.
— Пошли. — И Гомес повел Эндерби из уборной по коридору, который привел их к составленным ящикам с пустыми бутылками, потом в какую-то чесночную буфетную, ярко освещенную единственной голой лампочкой. Теперь Эндерби хорошо его разглядел. Волосы рыжие. Правда ли, что он брат темноволосого смуглого Джона? Гомес — гот, может быть, даже визигот, которых немало в Испании, положивших конец иберийской провинции Римской империи. Был у них один епископ, переведший кусочками Библию, только гораздо позже; грубый народ, но весьма энергичный; язык сложностью не уступает латыни; возможно, они заслуживают доверия, скажем, не меньше, чем мавры. Эндерби на всякий случай решил быть очень осторожным.
В буфетной коричневый мальчик в полосатой ночной рубашке резал хлеб. Гомес беззлобно шлепнул его, взял кусок того самого хлеба, шагнул к плите в пятнах горелого жира, макнул кусок в миску с чем-то вроде масла из-под сардин, сложил в каплющий сандвич и съел. Его светлые шныряющие глаза охватывали массу аспектов Эндерби. Мальчик, продолжая нарезать хлеб, сощурил глаза в щелки и не сводил их с левого уха последнего. Эндерби раздраженно сменил позицию. Глаза остались на месте. Наркотики или еще что-нибудь.
— Имя свое назовите, — приказал Гомес.
Эндерби назвал единственный испанский вариант собственного названия в регенерированном барменском качестве. И добавил:
— Он обещал письмо прислать через вас. Una carta. Получили? — Гомес кивнул. — Ну, — сказал Эндерби, — может быть, отдадите тогда? Очень нужные сведения.
— Не тут, — брызнул Гомес слюной. — Скажите, где остановились. Приду с письмом.
— А, — заключил Эндерби с неким удовлетворением. — Понял вашу небольшую игру. — Ему показалось, что он улыбнулся, к своему изумлению, ослепительно: триумф близится. — Может, лучше бы к вам пойти за ним, если можно? Быстрей получилось бы, правда?
Гомес съел весь намасленный хлеб, облизал пальцы, вытащил из мешочка луковицу. Глянул на продолжавшего резать хлеб мальчика, глаза которого вернулись теперь к операции, и как бы смягчился, не стал его шлепать, пусть даже совершенно беззлобно. Наоборот, с усмешкой погладил. Испанская поэзия, думал Эндерби. Предположительно этот мужчина всю ее знает. Можно ли считать знакомство с поэзией, хотя бы номинальное, некой въездной визой в маленький мир предательства Эндерби? Гомес впился зубами сначала в верхушку, потом в хвостик луковицы (Эндерби почему-то вдруг вспомнил, что зуб на языке готов tunthus; впрочем, этот мужчина совсем незнаком с языком своих предков), выплюнул хохолок на пол, содрал кожицу, несколько подкожных слоев плоти, начал хрустко жевать обнажившийся перламутр. Полетели пикантные легкие брызги. Дивный запах. Эндерби понял: надо уходить. Быстро. Гомес сказал:
— Я вечером работаю. Скажите, где живете.
Мальчик перестал резать (кому, так или иначе, черт побери, нужен весь этот хлеб?), провел лезвием ножа по коричневому большому пальцу.
— Это, в конце концов, не имеет значения, — сказал Эндерби. — Спасибо за помощь. Или, может быть, в данном случае за отсутствие помощи. Так или иначе, muchas gracias[112]. — И вышел, звякая валявшимися в темном коридоре бутылками. Гомес крикнул вслед что-то, заканчивавшееся на hombre. Эндерби прошел мимо мужчины на койке, пребывавшего в мире ином, и сидевшего рядом с ним личного секретаря, пишущего под диктовку. Потом грудью раздвинул пластиковые ленты, слепо заморгал в баре. Там появился новый мужчина, очевидно шотландец, поскольку говорил «маленечко трудновато». Мужчина у школьной доски только что написал