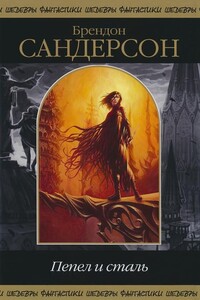Устроив дела с Юзеком, человекоид Трудного вышел со стороны коридора в комнатку пани Магды.
— День добрый.
— Боже ж мой...!
— Мне никто не звонил?
Вечером он посетил штандартенфюрера войск СС Германа Яноша на его частной квартире.
— Так ты все-таки жив! — лучился Янош радостью, угощая человекоида Трудного рюмочкой шерри. — Ты понятия не имеешь, как я рад! И чего только люди не болтали, ты бы только послушал...
— Что же конкретно?
— А, только время терять, ничего особенного! Самое главное, что ты жив и здоров, что вернулся. Тут столько заказов ждет!
— Это конец, Янош.
— Чего?
— Я закрываю дело и выезжаю отсюда с семьей.
— Это куда же?
— В Америку.
Янош рассмеялся.
— В Америку? Интересно, это как...
— Пускай у тебя голова не болит, это мое дело.
Янош перестал смеяться и уселся в кресле напротив человекоида.
— Нуу, даже и не знаю, только ли твое. Ведь у нас, как бы там ни было, имеется общество, договор...
— Было.
— И кто же это так сказал?
— Я так говорю, — сказал Трудны через своего человекоида, после чего передвинул его слегка в надниз и назад.
У Яноша рюмка выпала из пальцев. В кресле он сидел так, будто при виде нацеленного прямо в лоб пистолета.
— Нет...
Трудны открыл потолок салона на картину внутренностей подводного вулкана. Янош только заверещал от крайнего перепуга. Трудны закрыл потолок. Штандартенфюрер блевал на свой халат и на свой ковер.
— Ahnenerbe, Янош, — сказал человекоид. — Ahnenerbe.
— Понятно.
— Я рад. Прощай. — И он исчез.
Что же касается Конрада, то в тот день, о котором идет речь, он ужирался в приступе внезапной жалости по утраченному детству на какой-то свадьбе в ближайшей деревушке, где родичи одного из его нынешних дружков имели приличный кусок земли. День, о котором идет здесь речь, это был понедельник; праздник тянулся с воскресенья богатой поправкой головной боли; теперь же в темноте наступающей ночи, на поле боя остались немногочисленные потребители самых вульгарных напитков, ведь давным-давно все закончилось, кроме грязной чистенькой, то есть — банального картофельного самогона.
Конрад приподнял голову со стола и среди густых и жирных теней, плотно наслоившихся в углу сарая, увидал силуэт своего отца. Парень прекрасно понимал, что пьян, в жизни еще он так не напивался, как именно сегодня.
— Папа... — протяжно застонал он, одновременно неуклюже потянувшись куда-то в сторону, за бутылкой.
— Лучше возвращайся, Конрад, — сказал ему отец. — Возвращайся домой, мы тебя ждем.
— О Боже, папа...
Отец протянул ему руку — она вынырнула из темноты в бледный лунный свет словно из под поверхности какой-то темной жидкости.
— Возвращайся. Все уже будет хорошо.
Конрад упал с лавки, свалился на колени и начал блевать, горько скуля при этом.
Когда он поднял голову, отца уже не было.
В тот вечер, той ночью, второй ночью после возвращения Яна Германа, когда жизнь семейства Трудных стала возвращаться в норму, во всяком случае, так считало большинство его членов — в тот вечер в первый и в последний раз он усомнился в смысле и правоте своего решения.
Человекоидом вошел он в дом, и уже в холле, возле самой двери на него напали Кристиан и Лея. Они схватили его за ноги и начали вопить что-то про разлитый соус. Сразу же сделался ужасный шум и переполох, а в таких условиях Трудному было крайне тяжело соответствующим образом двигать головой и глазами человекоида, чтобы поддерживать впечатление его естественной заинтересованности окружающим посредством обычных, человеческих чувств манекена. Пришлось сбежать и спрятаться в собственном кабинете. Сюда, в свою очередь, пришлепала мать. Она сражу же начала делать театральные жесты и лить слезы прямиком в заранее приготовленный платочек. Он даже не знал, что сказать; мать что-то плела про перст божий, про наследие веков и про унылую старость. Когда же она ушла, он попросту вынул человекоида из дома, слегка подтянув его в подверх — хотя, из-за надетой на человекоида одежды, он не был в состоянии полностью расправить свое четырехразмерное не-тело, которое он, такое болезненно изогнутое и выкрученное, удерживал вот уже несколько десятков часов. И внезапно его молнией прошибла перспектива бесконечного страдания, которое сам себе и уготовил: неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. В нем поднялся наверх до тошноты сладкий яд цинизма. Самоотверженность, что? Жертвенность? Дерьмо, а не жертвенность. Да что бы они все сдохли! Ведь это приведшее в преисподнюю заклятие я произнес лишь потому, что схватило живот; вот почему, а вовсе не из за какой-то мученической любви к детям! Все равно же — проклят навечно, до самой смерти! Да чтоб их всех!