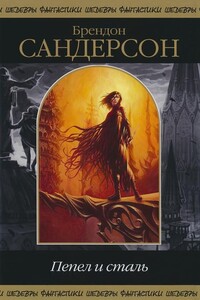— Что?
— Я уже закончил.
— И?
Бородач закрыл тетрадь, выпрямился, сложив руки на коленях; было похоже, что он в замешательстве. Ян Герман по собственной инициативе поднялся и убрал тетрадь с ящика. Усевшись на место, он тут же спрятал ее в портфель. Еврей присматривался к нему без какого-либо выражения в больших, темных глазах. Буквально только лишь в этот момент Трудного изумила буквально чудовищная сухость движений этого мужчины; собственно говоря, сам по себе он совершенно не двигался: им двигала ситуация — он был словно жидкость, которая всегда стекает в место, располагающееся ниже всего, заполняющая сосуд, метаморфично приспосабливающаяся к его формам, но сама по себе остающаяся мертвой и не принимающая оригинального состояния. Точно таким же был и этот семит — энтропия не имела к нему доступа: шаги всегда наиболее подходящей длины, минимальные движения головой, всегда наименьшие из всех возможных перемещения рук. Даже тогда, когда он перелистывал страницы тетради — даже во время этого ритуала жесты его не были хоть на кроху более щедрыми.
— Мне очень жаль, но это записки сумасшедшего.
— Гм?
— Совершенно бессмысленные.
— Меня не интересует их смысл; мне важно содержание. Что же конкретно этот сумасшедший написал?
Еврей не желал тратить энергии и на бесплодные споры.
— Он верил в чары, — сообщил бородатый. — Он верил, что и сам в состоянии... будто сможет их делать. У него была книга.
— Так...?
— У него была книга с описанием подобных чар. Это очень древняя книга; средневековое соответствие этой вот его тетради. Другой безумец, много веков назад, записывал собственные замечания во время своей работы над... заклинаниями.
— Шимон Шниц.
— Что?
— Шимон Шниц. Так, скорее всего, звали автора записок, которые вы только что прочитали.
— Он мертв?
— Шниц? Почему вы так думаете?
— Прошедшее время.
— А, — Трудны пожал плечами. — Не знаю. Возможно. Ну, и что же он там еще написал?
— Многое, только, говорю вам, это всего лишь кошмарные видения безумца. Чего вы, собственно, хотите? Скажите, потому что я не понимаю.
Ночь, подумал Ян Герман, ночь.
— Я хочу знать все об этих его чарах. И чем более сумасшедшими они будут, тем лучше.
Еврей тихо рассмеялся.
— Вы тоже в них верите.
— Говорите.
— Он собрался стать сверхчеловеком.
Трудны даже поперхнулся.
— Чего?
— Именно так он выразился в одном месте. В другом же — что богом. Еще в одном — что дьяволом. Я же говорю, это был сумасшедший, безумец.
— И что, он стал им?
— Это вообще крайне мутная история. Шниц явно где-то скрывался, он был закрыт в каком-то помещении и довольно подробно его описал. Там он проводил какие-то не уточняемые подробнее эксперименты, руководствуясь записками средневекового безумца. Потом ему что-то помешало... непонятно. Впрочем, таким образом он лишь продолжает традицию: клянет и ругает своего предшественника за то, что тот не оставил достаточно конкретных указаний.
— А те, которые оставил?
Еврей поднял взгляд на Трудного. Нездоровый, мутный свет лампы придавал коже на его лице цвет старого пергамента.
— У вас есть та, вторая книга?
— А что?
— Она у вас есть? Есть?
— Допустим.
— Так чего вы хотите на самом деле?
Трудны взъярился.
— Знать я хочу! — заорал он.
Бородатый все молчал и молчал.
В конце концов, он протянул к Трудному руку.
— Дайте мне, пожалуйста, эту тетрадь.
Ян Герман заколебался, но открыл портфель.
Еврей начал систематично перелистывать заметки и тут же спросил:
— У вас есть чем записать?
Трудны вынул ручку и блокнот.
В этот момент еврей уже нашел нужную страницу.
— Исаак Гольдштейн. Ювелир. Улицы здесь нет, но номер дома — двадцать два. Он был вдовец и очень пожилой человек. Других подробностей нет.
Трудны записал.
— И кто это такой, этот Гольдштейн?
Бородач ухмыльнулся.
— То есть как это, кто? Понятное дело, каббалист. Это он дал Шницу Книгу. Ты хотел знать, вот и знаешь; а теперь иди уже к нему, ну, иди к нему, сверхчеловек.
16
Первый раз в еврейском квартале Трудному случилось побывать, когда ему было пять или шесть лет. Отец, Павел Трудны, по-видимому, имел там какое-то дело, вот и забрал с собой сына, потому что в тот день все время ходил с ним. Была самая средина лета, жара ужасная, все горело раскаленным добела солнцем. Вспотевшая ручка Яна Германа выскальзывала из отцовской ладони. И он помнил этот вот пот и жару, и яркий свет, и, по правде, почти ничего больше. Такие вот самые старые, детские воспоминания — если вообще сохраняются в памяти взрослых — то всего лишь как рыхлые впечатления, основывающиеся на одной, но сильной и яркой подробности; все же остальное втиснуто в маловыразительный фон: подробность подавляет их, но, благодаря лишь этой подробности, мелочи, они до сих пор существуют, спасшись лишь в качестве случайного эрзаца себя самих. Ведь обычно — чаще всего подробности эти совершенно идиотские. Первый свой поцелуй Трудны помнил как унизительное воспоминание безумного желания отлить, потому что мочевой пузырь был переполнен двумя литрами лимонада, выпитого в рамках какого-то совершенно глупого пари за полчаса перед тем, как прижать в темном закоулке веснушчатую Яську. Зато момент, когда смерть в виде срикошетившей пули из ружья солдата императора Франца-Иосифа пролетела мимо буквально на полдюйма — этот вот момент совершенно утонул в туманных глубинах забытья Яна Германа; зато он помнил, как будто это случилось буквально вчера, не слишком отстоявший по времени и вроде бы абсолютно лишенный значения случай времен учебы езды на велосипеде, когда он свалился с него, очень больно разбил колени и свалился в придорожную канаву, а уже оттуда увидал сноп лучей заходящего солнца, простреливший через все еще крутящееся колесо перевернутого велосипеда: небо было ясным, солнце красным, спицы мигали в безумной карусели, а между ними мерцал мягкий, пастельный свет засыпающего вечера. Вот это он помнил. Но никак не смерть брата. Не его похороны. Из всех похорон помнился лишь кладбищенский ворон, в которого он бросил камнем, не попал, а громадная птица спикировала на него с высоты в ужасной контратаке страшного клюва, грязных когтей и мрачной тучи горячих, вонючих перьев; тогда маленький Ян Герман расплакался. И этот вот плач помнил. Благодаря ворону. Потому что, когда гроб с втиснутым в новенький костюмчик тельцем Яна Густава опускался в землю — не было никакого ворона, чтобы увековечить это мгновение в памяти Трудного. Так каков же ключ, в соответствии с котором совершается выбор? И вообще, существует ли таковой? Уверенности никакой. Правило найти невозможно. Быть может, ошибка лежит в самой основе: правила детства совершенно не соответствуют правилам времени взрослости. Только сам Трудны в это не верил. По данному вопросу, как редко когда, он склонен был принять власть случая, этого нечистого помощничка Господа Бога, серафима из последних, одаренного лицом Януса и именем, означающим только ложь. Почему Ян Герман запомнил эту пару секунд выхода из соборной тени в зной запруженной людьми улочки еврейского квартала? Почему именно эта пара секунд, а не какая-нибудь другая? Почему он запомнил их именно таким, а не иным образом? Он увидал этих людей, увидел их в движении, услыхал их речь — таинственный язык, окруживший его со всех сторон грозным приливом — только все это ушло в фон. Ибо только лишь одна мысль, одно впечатление, одна деталь осталась до нынешнего дня одинаково яркой и выразительной: не выражаемое словами изумление, неизъяснимое, немного пугливое, детское удивление — Боже, это же сколько здесь жизни...! Сколько в них жизни...! Какая энергия, какая сила протекает через них...! Теперь, будучи взрослым, Ян Герман знал, что воспоминание, сохраняемое все эти годы, само по себе раздуло, бесформенно разбухло и абсурдно увеличило эту мысль, обычное мимолетное наблюдение, и ничего более; только он не был в состоянии преодолеть могущества тысячи и тысячи раз повторяемого воспоминания. Уж слишком большой силой для обычных людей остается власть аналогий. Он говорил: евреи, а думал и представлял: жизнь.