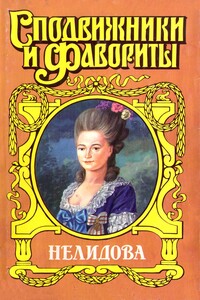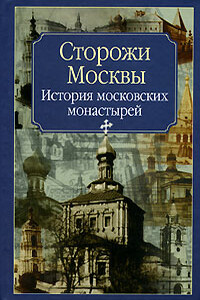Сражение на страницах русской печати продолжалось. Что значили свидетельства какого-то внука или даже Блудова по сравнению с очередной публикацией «Чтений» Общества истории и древностей российских! На этот раз свет увидела широко, оказывается, распространенная в списках рукопись, относящаяся, по заключению редакции, к XVIII веку, «Краткая история Елизаветы Алексеевны Таракановой». При этом данные рукописи были специально проверены автором публикации и во многом подтверждались фактами и другими историческими источниками, начиная с уровня воды, которого достигла невская вода в декабре 1777 года, вплоть до обстоятельств жизни отдельных причастных к делу княжны лиц. Общий вывод автора рукописи и автора публикации: Тараканова — родная дочь Елизаветы Петровны, погибшая в Петропавловской крепости, слишком неопытная и доверчивая, чтобы противостоять интригам и жестокости русского двора.
Очередной гипотетический вывод? Предположения, каких много? Но в том-то и дело, что автором публикации, как и издателем «Чтений», был профессор Московского университета, близкий друг Н. В. Гоголя, О. М. Бодянский, историк с твердо установившейся репутацией если не либерала, то ученого, знавшего цену факта и подлинного документа, которого не могут остановить никакие конъюнктурные соображения. Бодянский не искал легких дорог в науке и не знал их — свидетельством тому вся его жизнь. После первых двух лет издания «Чтения» еще в николаевские времена были закрыты за публикацию сочинения Флетчера о России конца XVI века. Сам Бодянский поплатился переводом из Московского в Казанский университет. И хотя личная его ссылка длилась сравнительно недолго, перерыв в издании «Чтений» затянулся на целых десять лет, срок большой и вместе с тем ничего не изменивший в позициях ученого, достаточно обратиться к реакции официальных историков на публикацию о Таракановой.
Это даже не критика — попытка «разоблачения». Как мог Бодянский принять за рукопись неизвестного автора фактический перевод появившейся действительно в конце XVIII века книги Кастера? Допустима ли подобная неосведомленность? Подсказываемое читателю удивление должно было снять впечатление от содержания текста. Как будто всегда можно назвать всякое имя, как будто не существует слишком хорошо знакомых и Бодянскому, и его оппонентам цензурных препон и как будто не самое главное, что именно эта рукопись получила широкое распространение, имела хождение в многочисленных списках на протяжении полувека и — невольный вывод, — по-видимому, наиболее точно соответствовала воспоминаниям народной памяти.
Но не на одной достаточно специфической научной полемике Кабинет решает строить оборону. В ход пускается обширнейшая то ли повесть, то ли историческое обозрение Мельникова-Печерского «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская» снова на страницах «Русского вестника». В чем-то приходилось уступать слишком очевидным фактам, зато в остальном осторожно, а подчас и не осторожно, пытаться корректировать истину.
Да, у Елизаветы Петровны действительно были дети от вполне законного брака с Разумовским, и даже целых двое — сын и дочь. Сын провел свою жизнь, хоть и очень горько сетовал на то, в одном из монастырей Переславля-Залесского, дочь — в Ивановском монастыре. Никаких прав на престол они за собой, естественно, не признавали и ни к какой власти не стремились. К ним автор проявлял необходимую почтительность. Поистине происхождение обязывает! Но зато в связи с «самозванкой» начинался целый плутовской приключенческий роман — что там похождения Манон Леско или графа Калиостро! Любовные связи ради денег, обманы, едва ли не кражи. Бесконечные разъезды по европейским городам в сопровождении частью штатных, частью меняющихся любовников в поисках спасения от полиции и вездесущих кредиторов. Нескончаемые списки простодушных жертв — от владетельных немецких князей, как оказывается, самых наивных людей в мире, до кардиналов Ватикана и полномочных министров почти всех европейских правительств. И в заключение связь с Алексеем Орловым в надежде на захват русского престола — последняя афера, стоившая «побродяжке», как называла ее Екатерина II, свободы и жизни.