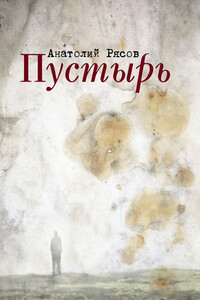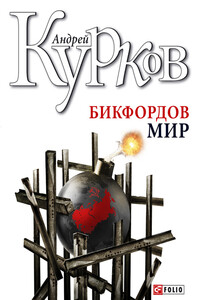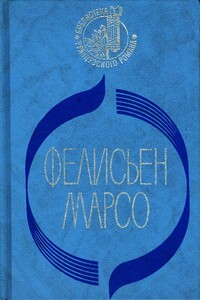Едва слышный гул. Введение в философию звука - страница 65
Постепенно гул оказывается не менее важным, чем речь. В кинематографе XXI века, пожалуй, никто пока не занимается этими вопросами так же масштабно, как Жан-Люк Годар. Собственно, начиная с середины 2000‐х годов его фильмы с равным успехом воспринимаются и как философские кинотексты, которые к тому же созданы для восприятия в трехмерном формате. Годара и Бергмана можно было бы назвать двумя полюсами киноопустошения, но, возможно, их методы не так уж и противоположны.
В русскоязычных субтитрах к фильму Adieu au Langage постоянно путаются «язык» и «речь». Собственно, даже вариантов заглавия переводчиками было предложено как минимум четыре: «Прощай, речь», «Прощай, язык», «Слова, прощайте» и «Прощание с языком». Каждый из них не вполне точен, но очевидно, что зубодробительный лингвистический эквивалент «Прощай, речевая деятельность», сохранив важную отсылку к langage Соссюра, разрушил бы поэзию Годара. К тому же работу переводчиков усложняют фонетические игры вроде Ah Dieux (О боги) вместо Adieu (Прощайте), равно как и всевозможные nom, ombre, nombre (имя, тень, число) в предыдущей картине Годара «Три бедствия». Но при этом перенасыщенный аллюзиями многоязычный фильм странным образом приближается к «нулевой степени». Индейцы называют мир не городом и не цивилизацией, а лесом. Все проваливается в приближенную к пустоте чащу, в которой действительно исчезает разница между известной цитатой и случайным, еле слышным скрипом. Невозможно нагая природа – вот что по-настоящему пронизывает эти зловещие кадры. Цифровые, рябящие кинопомехами джунгли одновременно мерцают жизнью, неожиданно рифмуясь с «Лесом» Бибихина, о котором Годар, скорее всего, не слышал. Ощущение немыслимого внутри каждого слова, отчего фразы остаются полупроизнесенными. И конец языка становится его началом – так же, как прозрачная метафора распродажи книг на европейском букинистическом лотке превращается в радикальный анархистский манифест. Это уже не похоже на постмодернистскую интертекстуальность, быстро ставшую общим местом в кинематографе. То, что делает Годар, созвучно поздним текстам Беккета и Бланшо – вполне закономерно, что эти авторы цитируются в его фильмах так часто.
Вот одна из цитат: «язык высовывается снова катается в грязи я остаюсь как есть жажды больше нет язык возвращается рот заперт теперь он верно как тонкая линия это сделано я сделал образ»[226]. Подобно некоторым кадрам, кочующим из одного фильма Годара в другой, эти слова из не самой известной миниатюры Беккета звучали еще в «Социализме». И фраза «я сделал образ», конечно же, оказывается еще и аллегорией киноязыка. Как мир из обрывков и руин – или лишь из мокрой земли, или изо льда (снова образ Бибихина) – не был бы менее сложным, так и бедность языка – это не путь к «простоте». Это хорошо известно молчащим нищим в «Ладонях» Аристакисяна – кстати, кадры из этого фильма Годар включил в свою «Книгу образа».