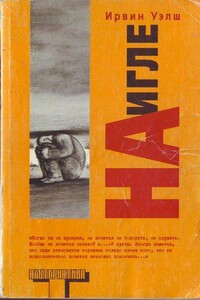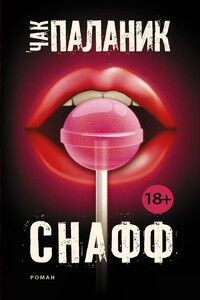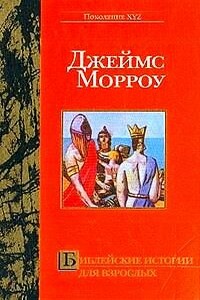Джули замерла. Папа пошел зажигать маяк. Физические нагрузки полезны для сердечников, но… 126 ступенек?
«Человечество разрушает себя своей нелепой ностальгией», — написала Джули.
Ручка выпала у нее из руки. 126 ступенек.
Она бросилась к двери, забыв закрыть дневник.
Все, что угодно, только не этот взгляд, застывший, запрокинутый, неестественно округлившийся. Джули не видела такого напряженного взгляда с тех пор, как вернула зрение тому мальчику, Тимоти. Отец лежал на площадке третьего пролета, прижав руки к груди, словно стараясь вновь запустить вдруг остановившееся сердце.
Она рванула наверх. 1985 год, лагерь герлскаутов. Она проходит курсы оказания первой помощи, получает наградной значок. Три толчка — искусственный вдох. Безжизненное тело казалось ужасно нелепым, эти торчащие из ноздрей темные волоски, зияющие на щеках поры. Толчок, толчок, толчок, вдох. Толчок, толчок, толчок, вдох. Когда Джули исполнилось одиннадцать, он начал приносить с работы фотографии, и они вместе раскладывали их на кухонном столе. Женщины с эмоциональными проблемами, фотографировавшие расчлененные манекены и плюшевых мишек, валяющихся в грязи, были автоматически дисквалифицированы. Как и кандидатки, чьи проявленные пленки являли любовников, мужей или ватаги резвящихся чад. Толчок, толчок, толчок, вдох. «А как тебе эта, Джули?» — «Какая-то сварливая тетка». — «А вот вроде ничего» — «Не-а». Толчок, толчок, толчок, вдох. Из этой затеи ничего не вышло. Из десятка женщин, кандидатуры которых были одобрены, ни одна не проявила к папе благосклонности. Толчок, толчок, толчок, вдох. А он был так искренен в своих намерениях, так серьезно настроен: да, он искал себе подругу, но, главным образом, хотел найти достойную мачеху своей дочке.
Постепенно Джули поддалась одолевающим ее инстинктам, некоему подобию материнского чувства. Положив ладонь на солнечное сплетение отца, Джули заставила его сердце ожить. Почему бы и нет, ее вмешательства никто не увидит, ни одному диверсанту даже в голову не придет. Толчок, теперь уже изнутри, еще и…
Подумай как следует, сказал он ей когда-то. Настоящее оживление — это не игрушки, это тебе не в краба карандашами тыкать. Во-первых, нужно завести сердце, потом ведь к этому времени из-за кислородного голодания уже отключилась центральная нервная система, превратив мозг в желе разобщенных полушарий и путаницу извилин. Все это тоже нужно привести в порядок.
Что потом? Убрать со стенок артерий и вен холестериновые бляшки? Да, пожалуй, но лишь затем, чтобы они тут же начали оседать снова. Папа был прав: на определенном этапе придется переделывать весь мир, а для этого по меньшей мере нужно быть Богом.
И все же она должна попытаться. Толчок. Еще. Еще один. Как вдруг то, что уже наполовину перестало быть папой, ожило, конвульсивно дернулось, прерывисто задышало.
— И, ид… — задыхалось ее творение.
— Папа? Да, папа? Что?
— И, ид… иди.
— Идти куда?
— Ж… жизнь.
— Жизнь?
— Ид-ди радуйся…
Последовал резкий хриплый вздох, словно у ее папы вместо легких был орган старой карусели, что на Железном пирсе. И тогда, во второй раз за вечер, он умер.
— Папа! Папа!
Пульса нет, дыхание не прослушивается.
— Папа!!!
Зрачки расширились и застыли.
Итак, вместо воскрешения, вместо второго Лазаря, было это полное слез восхождение на башню маяка. Иди, радуйся жизни, хотел сказать он. Что ж, так она и сделает. Она была послана не для того, чтобы сражаться со смертью. Возвращение к жизни — не ее призвание. Она и не взглянет в зеркало заднего вида, будет смотреть только вперед, жить в своем времени.
Джули знала: спички в жестянке возле фонаря. Она подняла линзы, завела часовой механизм. Керосина хватит? Отец всегда следил, чтобы резервуар был полным. Она чиркнула спичкой, повернула ручку. Встретив крохотный огонек и подхватив его, от центральной горелки, словно кобра из корзинки, поднялось пламя.
— Приветствую тебя, «Уильям Роуз», — задыхаясь от слез, вспухшими губами проговорила Джули. — На этот раз… у тебя… получится. — Она опустила линзы. Пошел вниз свинцовый поршень, нагнетая керосин к горелкам.