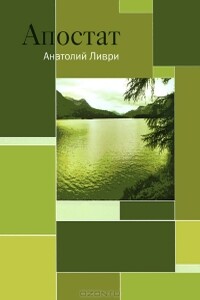Она уткнулась Герберту в плечо, которое постепенно увлажнилось. Герберт попробовал кожу плеча на язык. Солёное. Горьковатое. Морская волна. Скользкий рыбий рывок. Пиратский взмах дельфиньего плавника, — и вот уже бежит по волнам силуэт поэта с жезлом в руке, — потеплела Гербертова кисть; и он, точно разгорающееся пламя, принялся ворчать сочинённое давеча на заре:
«Ты — этой ночи снисхожденье,
Моей тоски последний всплеск,
Её прощальное виденье,
И новый в жизни счастья блеск,
К которому ещё стремлюсь,
Признаюсь: я как полубог
Геракл, убив, молюсь,
В слезе узрев внезапно прок.
К тебе притронусь — ты застонешь,
Прижгу губами — задрожишь.
Из грёзы монстра прочь ты гонишь,
Взрывая воплем тьму и тишь
И опостылый ступор Люта.
Его ж давно похерил я
Для предрассветного уюта
С проникновением в тебя.
Но может она, эта белокурая девица — последняя демонская хитрость, божий подвох, — ведь уже всему миру известно, что моё сверхтаинственное перо, помимо меня разглашает элевсинские секреты. Если так, то — изыди демон! Прочь из писательской каморки!»
Белая копна волос всё ещё лежала у Герберта на плече, точно завороженная магией русских слов.
— Ну же. Ну же, любовь моя. Это был только сон. Пустое. Безделица. Ты ведь знаешь правило? Страшный сон…
— Страшный сон смывается в ванне, — докончила она за Герберта, внезапно повеселев и впившись ему в губы горьким ртом.
После этого она проспала ещё несколько часов, затем долго плескалась за двумя перегородками, распевала В амстердамском порту, по–английски, с Дэвид — Бовивыми завываниями, и ушла, посвежевшая, расточающая ананасовый дух, ничего не забывшая, с лужами ужаса на неглубоком дне голубоглазья.
— Га! — хохотнул Герберт, лишь только стукнула дверь. Га–га–га-га! — отсчитывал его смех удары каблучков по крыльцу. Коллекционный Alfa Romeo взревел и ринулся в Париж, где, если верить рекламе, на Монмартской горе недавно началась распродажа ангелов.
— Я–а–а-ах победил! — изнемогал Герберт от гогота и слёз. — Я–а–а-ахх излечился! Я–а–а-аххх выжал из себя страдание, и как! Это ж надо! Вклиниться в чужие грёзы! Переиначить их на свой лад! Впрыснуть в них наикристальнейшую, тройной очистки муку! Запереть обе части вечно–женского в чужое сновидение и наложить на них свою лапу! Словно печать! Сколько для этого надо хрупких памятливых поколений со стальными мускулами и звериной волей!! Сколько лет неслыханно сложных тренировок! Сколько послеполуночных рыдающих катарсисов! Сколько подлунных коронаций, медленно, но верно, — словно поступь беловыева вола, — абсорбирующих шум шабашей околоброкенских болот!
Кто бы мог подумать: случайно и так скоро я стал господином бодрствования и грёз! — Царём мира! Теперь — всё позволено! Ещё немного, и я умру — хохот разорвёт меня на куски! Сейчас полдень, — а я, я пьян! Пьян от счастья! Солнце видится мне луной. Впрочем, так оно и есть: солнце — та же луна.
Седовласый клён вдруг замер, ошалевши от восторга. Из–за холма показались варварские полчища. Их предводитель, блистая подошвами, ехал, коленопреклонённый, на мопеде вдоль виноградника, и хор горланил ему вслед дикие песни. Мегафонный глас надрывался, точно молил о пощаде, а ему вторил нечеловеческий хохот и визг. Бас всего воинства завис над взъерошенными волосами бойцов, всех поголовно пьяных. Их лезвия вспыхивали на солнце, точно мало им было виноградной кровушки, пролитой в окрестностях шампанского стольного града. Подчас с тыла войска вылетал, рыча и вертясь, «Мираж», взмывал ввысь и пронзал бочкообразное розовое облако, всё в золотой бахроме, тотчас размётывая его на части. Грузовик с белградскими номерами отделился от авангарда, подкрался, точно ящер, к вилле напротив, слабо, но ритмично махавшей ветвью со своей веранды. Хмельные парни с дорийскими профилями повыпрыгивали из автомобиля, сбили замок на воротах и, ни на миг не прекращая песни, принялись лихо загружать кузов старинной мебелью. Всё шумело, летело, вопило — в рифму! — от счастья.
Раскрывшийся бутон лилии, испившей добрую треть кварты прошедшего через испытания морозом винца, поворотился всеми шестью лепестками в долину, расточая по гостиной запах ночных конюшен. И долго Герберт не мог успокоиться на своём персидском диване, постепенно, от пят до горла затапливаемый солнцем, встающим из–за холма, который, ощетинившись, всё выгибал в сторону светила полосатую спину, а у его подножия тополиные силуэты разучивали сложный журавлиный танец.