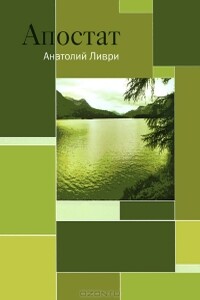Поравнявшись с Эхо, Бенито бросил мне своё жёсткое приветствие (его орёл, повинуясь сжатию трицепса, мигнул моему, сложил и снова расправил крылья), сверкнул зеркально выбритой щекой, — а уж я‑то знал, сколько крови стоил ему этот глянец! — да так мощно пахнул эфиопской оранжереей, что, мгновенно возвратившись в оазис, я приподнял тяжеленные веки выздоравливающего и увидел, как милая пальма на землю тонкой ступила ногой. «Рядом с Зулейкой я дремлю, ею лишь полный одной» — забывчиво подхватили мои сухие губы, и, поиздевавшись с минуту, лихорадка сгинула.
Махаон увернулся от паутины, которую в него метнул и тотчас куда–то пропал бородач-Борей; плавно и метко спикировал на вороную спину невесть откуда взявшегося жеребца и свесил оба золотых с чёрной каймой крыла на левую сторону крупа. Конь захрапел, нетерпеливо мотнул головой (отчего из его гривы выскочила и пребольно стукнулась о гаубицу–залупу ярко–фиолетовая стрекоза), на его боку заходили платиновые мускулы, и он уставил на меня карие, с мудрой сумасшедшинкой азиатские глаза. Стрекоза расправила слюдяные крылья, гулко зазвенела, причём над ней расцвёл изумрудный торнадо, и скрылась в жерле, затаившись там. «Всё царство за коня!» — вспомнилось мне, и я изумился скаредности нюрнбергского щелкунчика — «всего какое–то царство за этакое сверхчеловеческое существо?!»
Врач разрезал швы, замирая и отдуваясь после каждого щелчка ножниц, да прижёг спиртом невольную слезу в глубоком шрамовом русле. Вечерами я ковылял на трёх ногах вдоль уютного озера, уже с тоской вспоминая приторный запах сосен и горьковатый вкус коры дубов моей родины, а затем, чтобы доказать свою боеспособность всесильному генералу, в одну ночь добела отдраил от вековой сажи колоссальную статую пышногрудой Афины, которую неизвестно каким волшебством занесло в самое сердце пустыни.
Я успел ещё повоевать, одним своим видом вселяя священный ужас в защитников двух дюжин благоразумно сдавшихся фортов и, покинувши Африку, отправился к Геракловым столпам.
*****
Было пять часов пополудни, и долина покоилась в золотой неге. Чёрный, исполосанный багрянцем бычок взревел и, наклонивши затупленные напильником рога, бросился к вёрткому белоголенному дегенерату. «Эх! Промахнулся!», — не удержался я. Каудильо кинул на меня королевский взор, задержал его на шраме, покачал головой и снова поворотился к арене, откуда бык обратил к нам свой упрямый лоб.
Франциско знал, что я не любитель корриды, — мне куда более по душе отвоёвывание континента у двуногих врагов: зловонных гастролёров–анархистов; германских еху с их предводителем, носившим на указательном пальце шестиконечную звезду тёмно–жёлтого пластыря; и нового сорта скифских девиц, одну из которых мы извлекли из–под развалин Герники. Как она поразила нас геморроидальным цветом щёк и формой губ, уже начавших было произносить слово «fecale» да так и замерших на первом слоге!
Было пять часов пополудни, и долина покоилась в золотой неге. Кретин в белых чулках состроил вдохновенную ряху, приподнялся на цыпочках, молниеносно размахнулся шпагой, разрубивши воздух стальным рукавом; в это мгновение бычище изловчился и поддел его левым рогом в самый пупок, подбросил, нацепил поудобнее (шпага плюхнулась в песок, тотчас посерев от срама, а физиономия матадора приобрела своё естественное неандертальское выражение, из тех, что так щедро украшают кинокадры парадов Сарматии) и, неистовый, поскакал по ристалищу с добычей, отсекая копытами легко рвущиеся путы человечьих кишок.
Мой шрам ещё не успел налиться пурпуром, а внутри меня, помимо меня, маленький Мелех Царфати уже верещал от восторга, хохотал, бил в жаркие ладони, празднуя бычью победу. Зверь скинул на арену выпотрошенную игрушку, показал трибунам лоснящиеся от чёрной крови рога, и разинувши рот в счастливой улыбке, приготовился к смерти. Было пять часов пополудни, и долина покоилась в золотой неге.
*****
А вскоре, под Толедо, когда голубой от зари дивизион легионеров наступал на траншеи, харкающие русскими пулемётами, я получил пулю в живот и снова отлёживался сначала в госпитале под стрекот ла–манчевских цикад, а затем, после тряского перелёта — у самого тирренского берега, где на гигантской, нависнувшей над водой террасе распласталась длиннохвостая (как эта фраза) тень бананового дерева, да однажды — когда, отгородившись от мира цветущей стеной (кишащей лимонными Клеопатрами и басистыми шмелями), Бенито с князем Монтеневосо шёпотом обсуждали какую–то тайну — Маргарита встала, улыбнулась радужному дождю за моей спиной, пританцовывая, подошла к балюстраде и бросила в тёплые волны рубиновый перстень на прокорм мудрым рыбам.