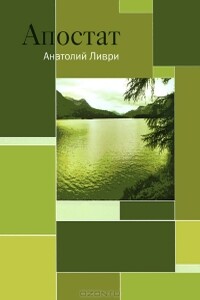Не срывай с меня одеяло!
А–а–а! Я гол. Куда теперь спрятать ухо? Как приложить мир к глазу? Что ж, буду глядеть на тебя, зверёк, да на её руки. Я и это умею: выключать образ, дробить его взором на части, — куда уж до меня здешнему Василиску!
Никогда не думал, что в спальне так холодно. Мне бы твою шерсть! Негритёнок, которому снится полюс, — всё равно какой! — вдруг взял да и очутился там. Такое нежное, белое (если глядеть с Гамбийского берега) внезапно стало жечь ступню — где ты, Трофим–пастух, со своими лаптями!
Почему негритёнок? Однажды, в Африке, лев зашёл в мою палатку. Лезвие. Кровь… Что я несу? О Fortuna, velut Luna… Опять лакуна. Заполняй, заполняй её, сатириконовый гений. Пляши, пляши, Фортуната!
Приступаю ещё раз. Итак, однажды, в Африке, где–то в сенегальской саванне мимо меня прошёл негритёнок. Он едва касался ступнями земли и нёс на себе столько анчаровых стрел, что казался одновременно и птицей, и скорпионом. Потом он поворотился ко мне и словно булыжником из пращи выпустил в меня словом «снег». Тогда я понял, что я тоже негритёнок, рыжий негритёнок, с бородой Святого Николя — такой может померещиться, если годовалый Лабрадор побежит к тебе навстречу с белым пакетом в зубах.
И всё–таки мне холодно, зверёк.
Николь поворотилась ко мне. Дыхнула остатками клубники, да так, что задрожало моё левое веко. В тот же миг грудь Николь, скатившись, ударила меня по щеке, мягко съехала и закачалась: тик–так, тик–так, гляди–ка, кат! Прямо на лапы игрушки упал Николин волос, совсем белый. Словно шнур. Был у меня когда–то такой. Только потолще. Впрочем, какое мне сейчас дело до толщины!
Нет?! Ремешок?! Что это? Меня привязывают. А! Теперь я понял! Эй, гиппо, мы будем играть! На, Николь, правую руку. Ту, которой пишу. Прикрути её ремнём. Я же тебе его подарил во флоридском Питере; не надо было туда ездить! Не надо! Обвяжи её здесь, через красную каплю следа комариного жала: моя кожа (или то, что под ней) с давних пор притягивает к себе всякую нечисть; только Толька покажется на людях, тотчас слетаются ведьмы да их козлы, а иной раз и пахан-Уриан вылезает и нацеливают в мою сторону свои хоботки, словно кончики профессорских перьев, крытые фальшивой позолотой.
Доставай же теперь второй ремешок из «Freitag’а». Откуда этот у неё? Я все вещи знаю наперечёт в нашем шкафу — а его не видно! Не видно! Он там, за небосводом, который поддерживает одним плечиком кариатида-Николь. Куда ты, мысль! Не удержать тебя. Разрываешься ты на куски вместе с миром моим, что по кусочку да по пушинке я с холм…
Бери другую руку — ни один каратист не знал до последнего мгновения, куда угодят ему костяшки этого кулака. В висок ли? В грудь ли? — туда, где купчишки носят кресты. Бери же эту руку, привязывай к кроватной ножке — сам привинчивал её, сам выкрашивал в серебряный цвет. Цвет–цевочка! Алекто–али–ещё‑кто–девочка! Ммм–ва! Стягивай сильнее. Ещё сильнее!
Вот я уже и на спине. И не спрятать мне взгляда: прыснул мне в лицо клубничным оскалом шакал; проглянула сквозь наши с тобой тучи, зверёк, люстра — Фаэтонов скакун.
Так тошно, хоть телевизор включай!
Сейчас главное — как можно меньше двигаться; как можно тише дышать — унять лёгкие, пусть воздух выходит еле–еле, пусть грудь остаётся недвижимой. И не говорить с Николь. Это же не она; она ведь — только тело, даже оболочка тела, которое не знает, что творит. Так пусть же связывает она мои ноги. Ай! Только не так, чтобы косточка правой ступни пришлась к косточке левой! А потом пряжку туда, вниз, под матрасные пружины, — недавно вылез чёрный клык одной такой и ужалил меня в пяту. Зацепи ремень там за крюк картинной рамы — пустой, пустой, конечно! Пустой и тяжёлой, в общем — подарок твоей матери к свадьбе.
Сейчас я лежу. Без движения. Шерстинки по телу — куда тебе до меня, медведь Маяковского! — лес дремучий (всегда–то ты, Николь, бывало, выплюнешь парочку после нашего соития). Впрочем, нет, не ты, а та, та другая. Никогда мне не стать сенегальцем — сейчас я рыж, словно глина — такая шкура покрывала землю азиатского перевала в моём контрабандно–шутовском прошлом. Как всё было просто! Оказаться бы снова там, в Камазе, груженном ракетами с пентаграмным клеймом: вот она, гора Арарат или ещё какая! Приехали! Подходи, каждая тварь! Принимай по паре катюш.