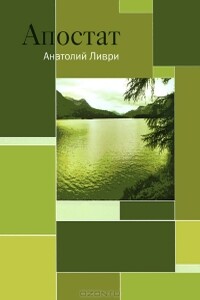Бор содрогался, ревел раненым яком, метался яростной медведицей и, гогоча, погибал. Охваченные огнём лиственницы и сосны факелами освещали весело подмигивающий небосвод. Вскоре пламя перекинулось на виноградник, принялось с хрустом пожирать его, и к запаху смолы и хвои прибавился дух молодого вина. И всю ночь напролёт, из чудовищного, достигающего гранитной вершины костра, изумлённому, насилу спасшемуся из сгоревшей полотняной палатки рыбаку чудились смех на тысячу разных ладов, бешеные крики, повторяющие одно и то же короткое слово, и снова дикий, громогласный смех. А утром, когда наконец солнце почтительно взглянуло в зыбкие воды озёр, огонь иссяк. Но обнажённая, обугленная гора ещё долго тихо курилась, словно силилась вспомнить нечто важное и таинственное.
Шёненбух, ноябрь 2001
А! А–а–а-а-а! Ещё немножко! Ещё! Ах, как хорошо! А! А–а–а-а–а–а-а!.. Ой, что это было? Я ещё сплю? Нет, наверное. Но как это было здорово! Оно плескалось внутри меня, как море, отзывчивое, тёплое, бархатистое на ощупь. И сейчас там всё ещё мягко, радостно, как во вчерашней сказке. Про кого мне рассказывала мама? Про мальчика с дудочкой! Дудочку эту он подносил к губам, перебирал по ней пальцами, выдувая из неё серебряную россыпь звуков. Затем он вошёл в воду. А потом? Волна. Ещё волна. Тут–то я и заснула. Голос мамы смешался с шёпотом волшебного прибоя; как глубоко он дышал! Как лошадка после галопа! А злые крысы метались по пляжу, вовсю щёлкая зубами, так что чудилось мне, будто майские жуки да мохнатые ночницы бьются в моё окно.
А как пахло это море! Душистой тиной; ласковыми водорослями–невидимками; пеной с кусачей кипрской гальки, о которую прошлым летом я порезала ступню; дальними странами: Луизианой, Квебеком, Сайгоном и той землёй из папиной книжки — как она называется? — то, что растёт на дереве, сочное, сладкое, с шероховатой кожицей?
Этой ночью что–то случилось. Во сне всегда что–нибудь да происходит. Как хочется поделиться всем этим с мамочкой, с папой, с бабушкой, с Рене, а я ничего не могу припомнить! Жаль! Так, наверное, будет всю жизнь!
«Да! Да! Да! Да!» — верещу я что есть мочи, как милый господин Журден со сцены. Даром что весь зал хохотал над ним. Какие они гадкие! А я плакала. Я не жалела Журдена. Нет! Я просто понимала, как ему хорошо и отчего он выкрикивает это сухое «Д», которое, как волнорез, разобьёт, но не удержит непоседливое и у меня в животе живущее «А». И я уверена, что мы бы превосходно поиграли с этим умным, добрым дедушкой в цветастом кафтане и роскошной шляпе со страусовыми перьями. А ещё я хотела, чтобы он познакомился с бабушкой — она ведь одна! Да и ему не нужно было бы больше терпеть свою противную жену, которая всё мешала лапочке господину Журдену проказничать с друзьями. «Да!», — в последний раз выкрикиваю я. Уф, как хорошо! И совсем, совсем не хочется вставать.
Руки у меня, как у братика Рене. Сейчас они лежат вдоль одеяла, такие тяжёлые, с гуашевыми разводами на пальцах. Как неохота двигать руками! Хотя обычно я обожаю гладить их: правой ладошкой — левую руку, левой — правую, медленно–медленно, от запястья до плеча и обратно. Но сейчас мне хочется только чувствовать холодный шёлк простыни, ещё глубже погружаться головой в пуховую мякоть подушки, ощущая копну моих русых волос, да смотреть вокруг, например, на только что проснувшийся и тотчас раскрывший свой единственный глаз горбун–пылесос у окна с прозрачной тюлевой занавеской; на маленькие белые тучки; на златомаковую гору; на висящего в воздухе ястреба, пронзительно перекликающегося с грустным красным поездом в долине.
Комната у меня большая, с белыми, как бабушкина прялка, стенами, скрипучим паркетом, высоким лепным потолком и изразцовой печью. Напротив моей кровати, увенчанный толпой золотых кубков, выигранных папой на соревнованиях по бегу, замер старинный шкаф с вырезанным на его боку толстоносым волосатым солнцем, в недоумении отверзшим свою пасть.
Шкаф тоже ленится с утра, решивши не закрывать распахнутые во сне двери, беззастенчиво выставивши напоказ свои внутренности: кишки и сосуды пиджачных рукавов; остановившееся полое сердце галстучной удавки да два полушария миниатюрного мозга, обтянутого дядиной пилоткой лётчика–истребителя.