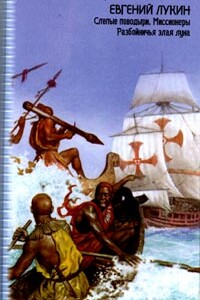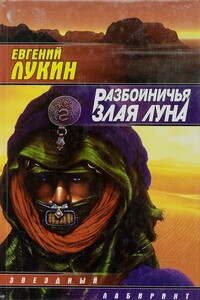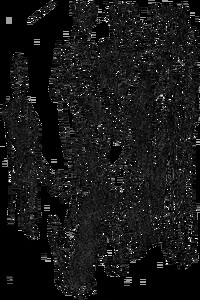— Послушайте, ну сколько можно?! — шёпотом возмутилась она. — Ещё и сюда пожаловали…
Это была первая и последняя жена трагически погибшего Лаврентия Неудобняка, опрошенная лично Алексеем Михайловичем на прошлой неделе.
— Здравствуйте, Руся, — озадаченно приветствовал её старший опер. — Так вы здесь работаете?
— А вы и не знали! — ядовито выговорила Руся.
— Я не к вам, — успокоил её Мыльный. — Секретарь на месте?
— Послушайте! — сказала она. — Мы развелись с Лаврентием шесть лет назад. Какого чёрта…
— Я совсем по другому делу.
— По какому?
— Рукописи принёс, — и соврал, и не соврал старший оперуполномоченный. То, что лежало в его папке, действительно было сплошь написано от руки.
Соблазн расспросить Русю о Николае Пешко возник у Мыльного лишь на секунду. Слишком уж свежа была память о предыдущем их разговоре. Тогда её пришлось отпаивать корвалолом.
Руся же, уяснив, что сотрудник органов сам грешен в смысле изящной словесности и прибыл вовсе не по её душу, стала вдруг надменна и пропустила пришельца к начальству не сразу, а выспросив сперва в приоткрытую дверь, свободно ли оно.
* * *
Будь на месте Алексея Михайловича кто-нибудь помоложе и понаивней, он бы немедля заподозрил в секретаре местного отделения Союза писателей искомого серийного убийцу. Был Исай Исаич старообразен, костляв, в движениях порывист, а взгляд имел безумный. Впрочем, причиной тому, возможно, являлись очки с сильными линзами. Над голым, рельефно отблёскивающим черепом вился прозрачный дымок волос.
— Пешко? — грозно переспросил секретарь. — Графома-ан…
И разразился сатанинским смехом. Глаза его при этом стали мёртвые.
Определённо, о случившемся он ничего ещё не знал. Пришлось информировать. Услышав о трагической смерти поэта, секретарь оцепенел на миг, затем сунулся в правую тумбу стола и сноровисто извлёк из ящика початую бутылку.
— Помянуть, — глухо сказал он.
— Я на службе, — напомнил опер.
— Помянуть!!! — яростно вскричал секретарь.
Помянули.
— Ну так что он? — душевно спросил опер.
— Знаешь, — сдавленно признался секретарь и замотал нагим, слегка опушённым черепом. — Бывают святые люди, но этот… Всю жизнь! Понимаешь? Всю жизнь отдать поэзии… Дара Божьего… Хочешь перекрещусь? — Снял очки, перекрестился, снова надел. — Дара Божьего — ни на грош. Но — предан! Предан был литературе до самозабвенья. Это подвиг!
— Жёлчный был человек?
— Кто?
— Пешко.
Безумные глаза маньяка, увеличенные линзами, уставились на опера.
— Да никогда! — возмущённо произнёс их обладатель. — Благоговейный был человек! Поэму Пушкина «Цыганы» от руки переписал…
— Зачем?
— А вот чтобы проникнуться. Секреты мастерства постичь. Смирение-то, смирение какое! Сам подумай: буковку за буковкой, от руки. На это, знаешь, не каждый ещё способен…
— Убийца у него на груди вырезал слово «жёлчь».
— Клевета!
— Тогда почему?
— Что почему?
— Почему вырезал?
— Н-ну… — замялся секретарь. — Давай помянем. Царство ему Небесное.
Налил по второй, посопел.
— Нет, ну были, конечно, недостатки, были… — нехотя признал он. — А у кого их нет?.. — Доверительно подался к собеседнику, жутко расширив зрачки. — Между нами говоря, — многозначительно молвил он, — тот ещё был жук. С тобой пьёт и на тебя же в управление культуры стучит. А? Вот так вот… А ты: жёлчный! Лучше б он жёлчный был! Тихушник… Ну, давай. За упокой, как говорится, души… Земля пухом…
Благоговейный человек и в то же время стукач? Интересное сочетание. Хотя почему бы и нет? Вполне возможно, что покойный Николай Пешко стучал с тем же благоговением, с каким переписывал от руки поэму Пушкина «Цыганы».
Выпили. Вернее, выпил один только старший оперуполномоченный, а секретарь поперхнулся и выпучил глаза. Видя такое дело, опер оглянулся на дверь кабинета. На пороге мялся некто замурзанный с круглой бородкой.
— Жив… — не веря произнёс секретарь.
— Кто?
— Пушков.
— Какой Пушков? Пешко!
— Ой, блин… — сказал секретарь, берясь за блистательный череп. — Ну значит, долго жить будешь, Ваня… Подожди пока там. Тут, видишь, дело у меня.
Замурзанный и едва не похороненный заживо Ваня Пушков тоскливо поглядел на бутылку и с неохотой взялся за дверную скобу.