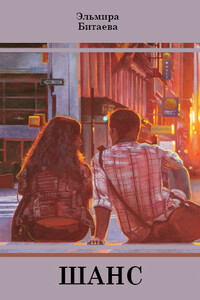тропинках, когда дорогу перебежал олень. И ее конь вдруг перепугался и
понес. А я за ними не поспевал. Казалось, что несусь во весь опор, но когда
они скрылись за поворотом, понял, что не успеваю, опаздываю. И я опоздал.
Буквально на секунду, но опоздал. Девочка моя…, она не удержалась в седле,
- он умолк, шумно вздыхая, и переводя дыхание. Он мог не продолжать, я
уже поняла, что произошло, но он все равно продолжил. Не для меня. Для
себя.
- Врачи быстро приехали, забрали ее в больницу. Постановили перелом
шейных позвонков, сотрясение мозга. Внутреннее кровотечение. Она умерла
во сне, теплой июньской ночью, в свой день рождения. В двеннадцать лет.
Год назад. Джина не разговаривала со мной с той ночи. А спустя две недели
после похорон, она собрала вещи и уехала. Она сказала мне только одно
слово, перед тем как уйти. Она прошептала: ненавижу. Одними губами. Но я
четко услышал каждую букву. А Амелия…. Знаешь, она еще очень любила
фиалки. Казалось, ну что такого можно найти в фиалках? Цветы как цветы. А
я ей нравилось на них смотреть по ночам. Вот они больше не цветут. А
цвели…
Что я могла ему сказать? Сомневаюсь, что он нуждался в моих словах
искреннего сочувствия. Никакими словами не заглушить этой боли. Время
вокруг замерло. Казалось, что даже пламя свечей больше не дрожит от
легкого сквозняка. И он не выдержал. Я слышала сдавленные глухие
рыдания, и протяжные стоны сквозь упрямо стиснутые зубы. Нет, никаких
скупых мужских слез. И это было страшно. Очень страшно. Страшнее, чем
проснуться в больнице, смотреть на родную мать и не узнавать ее. И не
помнить, кто ты. Я ничего не могла сказать, но это не значит, что я ничего не
могла сделать. Я крепко обняла его, понимая, что мое присутствие, мое тепло
– это единственное, что я сейчас могу дать ему. Джордж не оттолкнул, напротив, развернулся, уткнувшись носом мне в плечо, и тесно сжал, до боли
в ребрах. Я ничего не говорила, только гладила его по спине. И я как будто
забирала у него эту боль, пусть немного, но чувствовала, как остро колет
сердце. И чувствовала себя как лист бумаги, который рвут пополам. Все
сознание уплыло, завязло в воске тающих свечей. Осталась только моя душа, пытающаяся хоть как-то согреть его иссохшую, уставшую. Он плакал, и я
плакала вместе с ним. Это не стыдно. Это необходимо. Как будто через эти
соленые обжигающую кожу потоки уходило все плохое, вся эта боль и
ощущение вины, безжалостное и грызущее. И я только надеялась, что ему
действительно будет не так больно. Мы просидели в обнимку до восхода
солнца. Он больше не дрожал, не плакал и не повторял ее имя, только горячо
дышал мне в плечо. А потом прошептал: Спасибо. Едва слышно, но я
почувствовала, как дрогнули его губы на моей коже, и поняла каждую букву.
Море волнуется раз.
Она падает на кровать, так что ее длинное темно-синее платье
задирается до бедер. И через тонкую ткань телесных колгот можно
увидеть белый треугольник трусиков. Ему нравилось, когда она носила
простое белое белье, в этом было что-то такое, сродни самовыражению. А
она ненавидит платья и колготки. Но ради него выдержит и первое, и
второе. Она заразительно смеется, задирая уставшие ноги кверху, и
перебирая ими в воздухе, словно катаясь на невидимом велосипеде. И
говорит, что так вымоталась, что у нее даже нет сил, чтобы встать,раздеться и смыть косметику. Не говоря уж о том, чтобы доползти до
душа. И спать она будет в чем есть. И когда он с утра проснется, и увидит
помятое после бурного вечера лицо, и осыпавшиеся уголечки туши и
размазавшегося карандаша, то решит, что провел ночь с дешевой портовой
шлюхой. Он улыбается в ответ, и так, и не совладав с ремнем на брюках,падает рядом. И говорит, что даже если он так и решит, то все равно, для
него она будет бесценной шлюхой. И вообще, он тоже выдохся, и спать