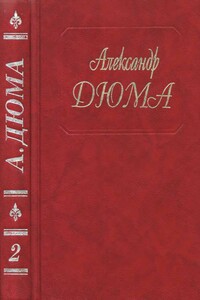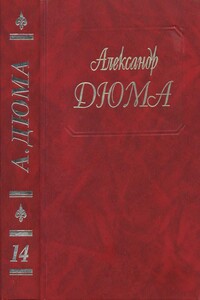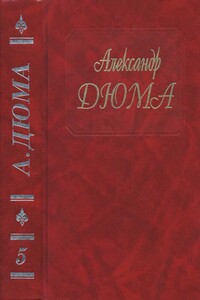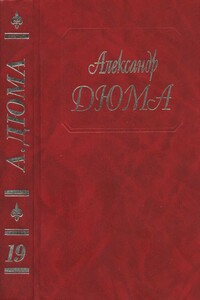Он молча отдал мне птицу и пошел своей дорогой, но, поравнявшись с Берна, сказал ему несколько слов.
"Что он говорит?" — спросил я. "Он спрашивает, стреляли ли вы в птицу влет". — "И что вы ему ответили?" — "Я ответил, что да". — "Стало быть, именно этот ответ и заставил его, как я видел, с сомнением покачать головой?" — "Да, именно так". — "Значит, он не верит?" — "Надо думать, нет". — "Вы с ним знакомы?" — "Да". — "Он хорошо стреляет?" — "Он слывет одним из лучших стрелков в округе". — "Тогда позовите-ка его".
Янычар окликнул араба. Тот вернулся с неожиданной для меня поспешностью; было ясно, что уходит он с сожалением и что ему, видимо, очень хотелось поглядеть поближе на нас или, вернее, на наше оружие. В пяти шагах от меня он остановился, степенный и неподвижный.
Жиро и Буланже, которые следовали за ним, держа в руке карандаш, тоже остановились; подобно мне, они впервые видели араба и, судя по той жадности, с какой им хотелось зарисовать его, можно было подумать, что они опасаются не встретить других.
"Вот француз, который утверждает, что стреляет лучше тебя", — сказал ему янычар, показывая на меня.
Едва заметная усмешка сомнения искривила губы араба.
"Он убил эту птицу влет и говорит, что ты так не сумеешь". — "Сумею", — отвечал араб. "Ну что ж, все складывается прекрасно! — продолжал янычар. — Вон летит птица, стреляй и убей ее". — "Француз убил свою не пулей". — "Да". — "Что он говорит?" — спросил я. "Он говорит, что свою птицу вы убили не пулей". — "Верно. Вот дробь".
И я показал арабу заряд дроби пятого номера. Он покачал головой и произнес несколько слов.
"Он говорит, что порох стоит дорого, а в здешних окрестностях слишком много гиен и пантер, чтобы тратить порох на птицу". — "Скажи, что я дам ему по шесть пороховых зарядов за каждый выстрел, который он сделает, состязаясь со мной".
Янычар передал мои слова арабу. Все это время Жиро и Буланже продолжали делать зарисовки.
Было видно, что желание приобрести тридцать или сорок пороховых зарядов, не запуская руку в собственный кошелек, боролось у араба с опасением не поддержать должным образом свою репутацию; наконец алчность взяла верх. Вынув пыж из своего ружья, он вытащил пулю и протянул ладонь, чтобы я насыпал в нее дроби. Я поспешил откликнуться на этот жест.
Зарядив ружье, он проверил запал и стал ждать.
Ожидание было недолгим: все это африканское побережье изобилует дичью. У нас над головами пролетел зуек; араб долго целился в него своим длинным ружьем и, решив наконец, что взял птицу на мушку, выстрелил. Зуек продолжал свой путь, не потеряв ни единого перышка.
На выстрел поднялся бекас; он был в пределах досягаемости, и я подстрелил его. Араб улыбнулся.
"Француз стреляет хорошо, — сказал он, — однако настоящий охотник стреляет не дробью, а пулей".
Янычар перевел мне эти слова.
"Верно, — отвечал я. — Скажи ему, что я с ним совершенно согласен, и, если он хочет сам выбрать цель, я берусь сделать то же, что сделает он". — "Француз должен мне шесть пороховых зарядов", — заметил араб. "И это верно, — согласился я. — Пусть араб протянет руку".
Он протянул руку; я высыпал в нее около трети своей пороховницы. Он вытащил пороховой рожок и ссыпал в него порох от первого до последнего зернышка, причем с таким тщанием и такой сноровкой, какие походили чуть ли не на почитание.
Было ясно, что, закончив эту операцию, араб сочтет за лучшее уйти; но совсем не того желали Жиро с Буланже, не успевшие завершить свои наброски.
Поэтому, как только он сделал первый шаг, я обратился к Эль-Арби-Берна:
"Напомните вашему земляку, что ему и мне предстоит послать пулю туда, куда он пожелает".
"Да", — ответил араб.
Оглянувшись по сторонам, он отыскал на земле нечто вроде жерди. Подобрав ее, он снова принялся что-то искать.
В кармане у меня лежало письмо одного из моих племянников, служившего в личных владениях его величества. Письмо это мирно покоилось в четырехугольном конверте с красным штемпелем; я отдал его арабу, подозревая, что он ищет нечто в этом роде. Письмо и в самом деле представляло собой отличную мишень.