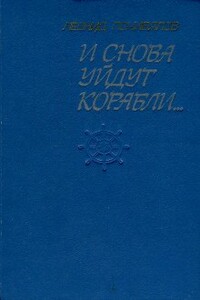Это были тонны сожженного горючего, тонны израсходованной воды, сотни рублей, истраченных на амортизацию оборудования, на зарплату, на командировочные…
Всего пять дней — и такие весомые цифры! Они производили впечатление, и в зале зашушукались.
Кажется, впервые Чуваев почувствовал, что он уже не командует на этом сборе, а превратился вдруг в обвиняемого — от имени коллектива. Торопливым просительным взглядом он искал поддержки у шефа экспедиции.
Золотцев поправил очки, решительно готовясь снова овладеть вниманием зала, но тут в события вмешался Кисин.
— Да на кой ляд мы их слушаем? Что они… — Кисин боднул тяжелой головой в сторону старпома, — …что они, прокуроры какие, что ли? Ишь ты, расчетики нацарапали: сколько тарелок супа сожрано, сколько раз в гальюн схожено. Мудры! Доктора, профессора, елки-палки! — Это адресовалось уже Смолину. — А если перевести на тарелки супа и тонны сожженной солярки проживание на борту, к примеру, доктора наук Смолина? Если его спросить: что он тут поделывает? Какие такие расчеты ведет в тиши своей одноместной каюты? А? Пусть ответит! Мы обязаны спросить его и о другом. Почему использует столь дорогое, как подсчитал дотошный наш старпом, пребывание каждого из нас на борту «Онеги» для того, чтобы вместе с новичком в науке Чайкиным изобретать велосипед? Почему отвлекает молодого специалиста от его работы? Пусть ответит! Можно спросить и еще…
— Минуту! — Чуваев выкинул вперед руку с растопыренными пальцами, как бы преграждая злобный словесный ноток своего помощника. — Минуту, товарищ Кисин! Только без свары! Мы ученые, и обязаны уважать мнения друг друга. Я благодарен Константину Юрьевичу за его прямые, откровенные, хотя не очень справедливые, я бы даже сказал, не совсем корректные высказывания. Да, у нас были недоработки. Но, как известно, в науке отрицательный результат все равно что положительный.
— Неоспоримая истина! — пришел ему на помощь Золотцев и недовольно покосился на не сумевшего удержать ухмылку Крепышина. — Я вижу, других высказываний нет. — Он оглядел зал. — Значит, будем считать, что подавляющее большинство членов научно-технического совета поддерживают точку зрения руководства на результаты проведенного эксперимента отряда Семена Семеновича Чуваева. Полагаю, голосовать незачем.
Последнюю фразу Золотцев произнес скороговоркой и как бы примял ее окончание.
— Но, товарищи, я не могу не сказать еще об одном, что меня чрезвычайно огорчило. Я имею в виду реплику Ивана Васильевича. — Он взглянул с укором в сторону Кисина и сокрушенно развел руками. — Ну нельзя же так, Иван Васильевич! Какие слова, какой тон! И в адрес кого? В адрес известного ученого — наша экспедиция может гордиться, что он оказался в ее составе. Прав, совершенно прав Семен Семенович, что дал принципиальную оценку этой несправедливой реплике, которая, как я надеюсь, продиктована просто мгновенным настроением и только. Уверен, Иван Васильевич теперь и сам жалеет о сказанном.
Ну и хитер Золотцев, подумал Смолин. Спич построил безукоризненно: и логически и эмоционально. Сейчас уже не скажешь: нет, я все-таки настаиваю на голосовании. Сейчас сказать такое неловко, начальник экспедиции только что горячо защищал авторитет Смолина, говорил лестные слова в его адрес. И тем самым умело увел внимание зала от главного — от принципиальной оценки работы Чуваева. И получилось, что и волки сыты, и овцы целы. Дипломат!
Стали расходиться, и к Смолину подошел Крепышин. Лицо его лоснилось от удовольствия, словно он только что побывал на веселом и захватывающем театральном представлении.
— Как у нас говорят, каждый научный рейс обречен на успех! А наш начэкс ловкач! Верно ведь? Складно вывернулся!
— Вы тоже ловкач. По телефону со смешком, с издевочкой, а сейчас — молчок.
— Видите ли, уважаемый доктор наук, мы живем среди стен, и в них ищем проходы, чтобы расширить свое жизненное пространство. Я не принадлежу к тем, кто готов долбить стену головой для того, чтобы найти ход покороче и попрямее. Мне голова нужна. Раз существуют стены, с ними надо считаться. Можно относиться к ним без уважения, но считаться, увы, приходится. Се ля ви!