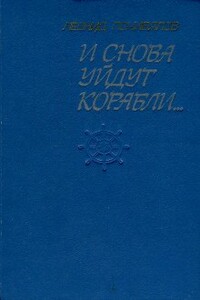Она облизала сухие губы кончиком языка и затихла.
— Была еще одна причина… — подсказал он.
— Была. — Подтвердила сурово. — Из-за меня он и пошел в рейс. Во всем виновата я. Не имела права допускать. Пыталась отговаривать. Но он ни в какую. Считал, что рейс в океан пойдет ему на пользу. Тогда я сама попыталась уклониться от командировки. Он настоял: научная тема у нас общая. И я отступила. Думала, все обойдется…
— Он тебя любит?
Она кивнула, так и не взглянув на Смолина.
— Гриша как большой ребенок. Ничего слушать не хотел.
— Может быть, все и обойдется… не убивайся раньше времени. — Он шевельнул губами, пытаясь изобразить обнадеживающую улыбку. — Так что у вас все будет хорошо!
Ирина вскинула ресницы, удивленно взглянула на Смолина и повторила за ним с невеселой усмешкой:
— У нас?! Эх ты!
Порывисто поднялась, нетерпеливо поправила упавшую на лоб прядку волос:
— Извини! Мне надо зайти к Ясневичу. Дела!
Смолин уходил от Ирины опустошенный, остро ощутив — в который раз! — свое одиночество.
Океан уже погрузился в темноту, над ним дрожали звезды, крупные, чистые, такие близкие, досягаемые, что казалось, «Онега» держит путь именно к ним. Древние были убеждены, что существует звездная память, что в этом мерцающем алмазном блеске, рассыпанном в зияющей над головой вечности, заключено прошлое и будущее каждого из нас. Глядя в завораживающий мир космоса, ты никогда не будешь чувствовать одиночество, наоборот, поймешь свою принадлежность к этому великому целому, ощутишь себя составной и равноправной частью его. Ведь ты уже существуешь где-то там, в скопищах звезд, планет, комет, астероидов, как среди близких тебе людей, которые покинули земную юдоль…
У трапа Смолина догнал третий помощник Литвиненко.
— Я вас давно ищу, Константин Юрьевич, даже в каюту звонил.
— Что-нибудь случилось? — встревожился Смолин.
Литвиненко улыбнулся во всю ширь своей просторной физиономии.
— Наоборот! Добрые вести! Представляете, мы с Моряткиным все-таки сумели связаться с «Глорией»…
— С кем? — не понял Смолин.
— Да с той яхтой, на которой француженки. Так у них все в порядке. Живы и здоровы. Идут прежним курсом.
Ночью Смолину снова виделись кошмары, и в них жестко впечатался чей-то настойчивый тревожный голос. «Штормовое предупреждение! Штормовое предупреждение!» Наверное, об этом сообщал динамик, в памяти след оставил, но не разбудил.
Он попытался выйти на палубу, но стоило приоткрыть дверь, ведущую к борту, как в грудь мягко, но мощно, как боксер перчаткой, саданул тугой порыв ветра. Ого! Штормище настоящий! Значит, не зря предупреждал их «голос бури». Вот она! Долгожданная!
В коридоре повстречался Кулагин. В крахмальной сорочке, при галстуке — будто в гости направляется. Снисходительно усмехнулся, увидев Смолина:
— Покачивает?
— Сколько баллов?
— Пока не шибко. Но идет к худшему. Пойдемте, взглянем на барометр! — Он легонько, дружески взял Смолина под руку. Это свидетельствовало о том, что зла старпом не помнит.
На мостике были Руднев и рулевой Камаев, невысокий широкоплечий крепыш.
Старпом зашел в соседнее помещение штурманской и, возвратившись в рубку, сообщил:
— Падает барометр! — подошел к лобовому стеклу, прищурив глаза, поглядел на океан: — Пока баллов шесть, не больше. Но волна плохая, бодливая. От такой добра не жди. — Обернулся к Смолину и снова усмешкой наморщил нос: — Вот она, ваша наука! На картах антициклон, полный штиль. А шторм вынырнул, как джинн из бутылки.
— Козни треугольника! — бодро определил Руднев. И стал вспоминать, как в другом «треугольнике», Филиппинском, который называют «морем дьявола», идущий на расстоянии тридцати миль от их сухогруза японский траулер вот в такой же внезапный непредвиденный шторм вдруг провалился в тартарары, словно угодил в яму. И ни щепочки на поверхности моря не осталось.
— Тоже мне примерчик! В такую погоду вахтенный должен о другом думать. На то он и вахтенный! — с расстановкой произнес Кулагин.
И, словно в подтверждение своих слов, взглянул на часы, взял микрофон и неторопливо вложил в его круглую решеточку четкие, полные оптимизма и спокойствия слова: