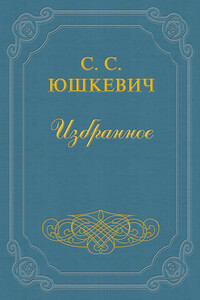Новогодняя ночь отличалась ото всех предыдущих ночей, проведенных мной в больнице, в первую очередь тем, что дежурный персонал словно испарился по мановению волшебной палочки. (Но мы-то знали, что взрослые затаились в кабинете главврача и втихаря отмечают праздник распитием шампанского, поеданием принесенных из дома вкусностей и энергичными прыжками под еле слышную музыку, изредка покрываемую вспышками приглушенного смеха.) Дети же могли практически свободно слоняться по палатам, вернее, «ходить друг к другу в гости».
Воспользовавшись случаем, я поднялась на второй этаж, к молчаливой девочке, но она уже крепко спала, а мармеладка лежала на ее доверчиво раскрытой ладони. С собой я захватила толстый блокнот и карандаш: я задумала написать ее портрет и мне хотелось сделать несколько эскизов. Разумеется, у меня и в мыслях не было того, что она согласится мне позировать (я собиралась делать эскизы тайком), поэтому я даже обрадовалась, застав ее спящей. Осторожно присев на тумбочку перед ее кроватью, я открыла блокнот и без промедления взялась за дело.
Рисовать ее было легко: кажется, я уже отмечала, что она с первого взгляда напомнила мне моего котенка, и теперь я с уверенностью наносила штрихи на молочно-белый шероховатый лист, жирно подчеркивая «кошачесть» ее скул и глаз. В результате у меня получилось личико героини из японского мультфильма. Поэтому я без лишних сожалений разорвала эскиз и взялась за следующий.
На этот раз я попробовала уйти от кошачьего образа и подчеркнуть болезненность и беспомощность девочки, но немножко «пережала», и с листа бумаги на меня взглянуло лицо ребенка, которого ведут на расстрел. Я порвала и этот эскиз, закрыла глаза и попыталась вызвать в памяти мимолетную слабую улыбку, с которой девочка-молчунья рассматривала карикатуру. Совершенно очевидно, что она не всегда была грустной и безмолвной, как сейчас. Девочки, которые легко улыбаются, при более близком знакомстве обычно оказываются смешливыми и жизнерадостными болтушками. И эта наверняка была такой же до того момента, как с ней случилось несчастье.
Я попыталась представить ее здоровой и веселой, а потом вновь взялась за карандаш. Мне пришлось порвать и выбросить еще несколько неудачных эскизов, прежде чем я смогла ухватить самую суть.
Когда окончательный эскиз был готов, я вернулась в свою палату и начала думать, на чем рисовать картину и что можно использовать вместо красок, ведь никаких материалов у меня здесь, в больнице, не было. Можно позвонить родителям и попросить их привезти краски и холст, но они приедут из деревни навестить меня только через неделю, к православному Рождеству, а мне не терпелось закончить картину сегодня ночью.
Я так воодушевилась, что даже позабыла о собственном недомогании, и теперь расхаживала по палате с дрожащими руками и сильно бьющимся сердцем. Из коридора до меня доносились тихий шепот и смех: дети, которым не хотелось спать, стекались в закуток дежурной медсестры, где в новогоднюю ночь никто не дежурил, и, рассаживаясь по узким кушеткам, рассказывали друг другу страшные истории (а те, кто еще не отошел от операции или очередного приступа болезни, набирались сил, мирно посапывая в палатах).
Я прислушалась: разговор шел о костюмах привидений, которые можно сделать из простыней, достаточно только нарисовать на них рожицу, а для пущего эффекта измазать кетчупом, будто бы кровью.
Тут меня осенило. Я подошла к своей кровати, откинула одеяло и сдернула с матраса простыню. Прикинув ее размеры, я кивнула собственным мыслям. Затем аккуратно разложила простыню на полу и сходила в коридор к единственному на весь этаж общему холодильнику, откуда позаимствовала чью-то бутылку кетчупа.
Вообще-то кетчуп относился к запрещенным продуктам, но, в отличие от нездоровых детей с серыми кругами под глазами, напоминающих плохо сшитые тряпочные куклы, из которых при малейшем движении сыплются опилки, кругленькие уютные мамы, лежащие в больнице с крохотными розовопопыми малышами, могли есть все, что угодно, и они частенько забивали холодильник вреднейшими соусами, копченьями, соленьями и вареньями домашнего производства.