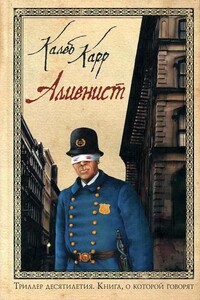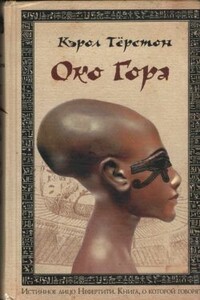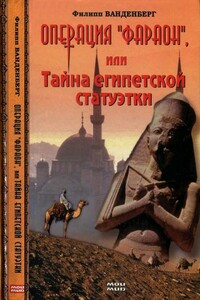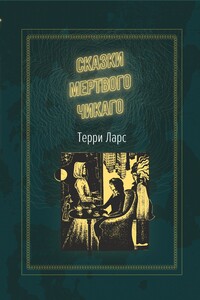— Все помнят, что ты был наставником изменников и тиранов. Все знают, что и сам ты изменник.
Сократ поинтересовался, кому и в чем он изменил. Анит заявил, что обвиняемый не раз насмехался нал афинским судом, говоря, что справедливых судей нельзя выбирать с помощью жребия. А демократию называл мелодией, которую исполняют люди, впервые взявшие в руки кифары и флейты. Сократ ничего не ответил.
— Сколько раз ты говорил, что в Афинах никто, кроме тебя, не обучает политике, — продолжал Анит.
Сократ рассеянно молчал, словно происходящее совсем его не касалось. Когда философ вновь взял слово, он обращался прямо к судьям, и голос его окреп:
— Тот, кто боится слов, потерял разум. Вспомните позорные суды над Еврипидом и Фидием, вспомните флотоводцев, которых приговорили к смерти после крушения при Аргинузах. Я пытался спасти их, но судьи оказались продажными. Прошло время, и Афины ужаснулись содеянному, а тогда меня никто не слушал. И вот теперь меня самого несправедливо обвиняют, не предоставив ни одного доказательства.
— У нас достаточно доказательств, — возразил Анит, — мы точно знаем, что ты учил Крития. И сумеем убедить в этом суд. При тридцати тиранах ты оставался в Афинах, хотя демократов тогда истребляли и лишь немногим удалось бежать. Почему же ты остался в городе? Да потому, что главный тиран Критий был твоим учеником и другом.
На это Сократ ответил:
— Я действительно оставался в Афинах. И Критий, как всем известно, запретил мне вести философские беседы. Он тоже боялся, что я стану совращать молодежь. А теперь именем демократии меня объявили пособником тирании. Почему мои намерения всегда толкуют превратно? Посмотрите на меня хорошенько. Неужели я и вправду похож на злодея-заговорщика, которого боятся и тираны, и демократы?
Философ медленно шагал вдоль трибуны Ассамблеи, внимательно вглядываясь в лицо каждого судьи. Судя по всему, тяжелый процесс ни капли его не утомил.
— Твои ужимки нисколько нас не впечатляют, — заявил Анит. — И слова тоже. Ты так и не объяснил, зачем помогал тиранам. Что Критий запретил тебе учить, всем и так давно известно. Но вот что действительно странно: ты оставался в городе даже после начала казней. — Он окинул взглядом трибуну судей. — Нам всем тяжело вспоминать об этом. Тысяча пятьсот афинян были убиты! Пять тысяч бежали, спасаясь от гнева тиранов! Почему ты не бежал вместе с нами, если ты и вправду верен демократии?
— Я не люблю скрываться. А Крития и его приспешников я не боялся.
— Наконец-то мы услышали правду, Сократ. Действительно, к чему тебе бояться своего лучшего друга Крития? Мне больше нечего добавить.
Анит сел на место, трибуны гудели, словно растревоженный улей, зрители переглядывались, вставали, обменивались репликами. Казалось, что и сам подсудимый осознал наконец всю серьезность своего положения. Сократ долго собирался с мыслями, прежде чем снова заговорить.
— Не пытайтесь запугать меня, Анит, Мелет и Ликон. Вы кружите надо мной, будто стервятники в ожидании добычи. Но все ваши обвинения — не более чем досужие домыслы. Моя жизнь — мой главный свидетель. Я призывал тех, кто слушал меня, не сходить с пути истины добродетели и буду призывать до конца дней моих. Я говорю о добродетели простого ремесленника, и о добродетели правителя, вершащего судьбы мира. Я говорю об истине рыбака или торговца и о той истине, что должна лежать в основе законов государства. Вот о чем я говорю, а вы называете это политикой. Мне не в чем оправдываться, но, коль скоро вы твердо решили меня осудить меня, я не дам приговорить к смерти ни в чем не повинного человека. Если правду стало возможно превратить в ложь, нас ждут страшные времена. Зло не может породить добро, порок — добродетель, а ложь — истину. У Анита есть немало причин желать моей смерти. Мой обвинитель не решается сказать правду: он мстит мне за потерю сына. Вот почему меня называют растлителем молодых. Теперь вы сами видите, что это нечестный суд. Приговорив меня к смерти, вы накажете самих себя. Совершить неправедный поступок куда хуже, чем стать жертвой несправедливости.