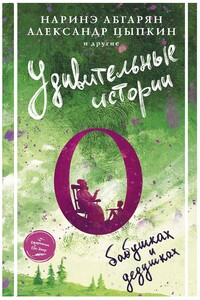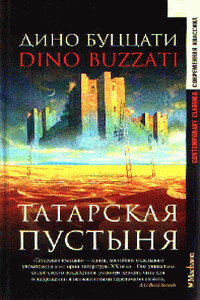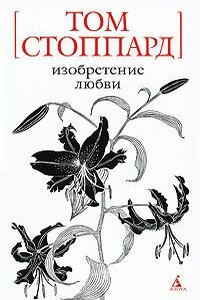В то время денег у нас было достаточно. Наша семья переехала в новый дом, соответствующий высокому положению отца. Мы четверо даже сменили имена, что вообще-то не представляло особого труда: Том превратился в Томмазо, я — в Микеле, а Джон — в Джованни. Вот только в отношении Пегги, поскольку никто не знал эквивалента этому имени, пришлось прибегнуть к радикальному средству — ее весьма патриотично назвали Италией. И, представьте, это ее совершенно не обескуражило: она продолжала столь же уверенно шагать по жизни. Ей шел тринадцатый год, и она росла и развивалась в полном спокойствии и довольстве.
Возвращение нам истинно национальных имен привело, увы, к постепенному забвению добрых воспоминаний о тетушке Бесси, невольной жертве политических потрясений. Американские игрушки, как и прежде, прибывали точно к рождеству. Но теперь мать в строгом черном платье торжественно раздавала их на грандиозной елке детям бедняков, в дар от политического главы городка, причем их иностранное происхождение тщательно скрывалось. Откровенно говоря, у нас не было причин жаловаться на судьбу. Не знаю, чем это объяснялось — обретенным ли с годами трезвым взглядом на жизнь или же влиянием пропагандистских сведений о той ничтожно малой толике счастья, которая выпала на долю американцев, — но только в нас окрепло убеждение, что, будь мы детьми тетушки Бесси, нам пришлось бы работать, в чем у нас, по крайней мере временно, не было ни малейшей необходимости. Да, политика действительно ожесточает души. Бедная тетушка Бесси, ее ореол мало-помалу поблек: если мы иногда и вспоминали о ней, то с полным равнодушием, а то и с легкой досадой. И все же эта святая женщина упорно посылала нам рождественские подарки. Лишь война положила конец ее безграничной щедрости.
О эпическое величие первого дня войны!
Нашему отцу, несмотря на горячее время сбора урожая, удалось собрать на площади всех до единого крестьян и батраков. В домах не осталось даже женщин, чтобы присмотреть за очагом. К вечеру, когда ленивое дуновение ветра донесло с поля рев недоеных коров, отец вместе с высочайшими представителями гражданских и религиозных властей, появился на балконе, осененном трехцветным знаменем. Его речь была достойна войти в историю. Он кричал, рыдал от счастья, целовал знамя и, призывая бога в свидетели, благословлял тех, кто готов пожертвовать жизнью во имя родины. Он с такой яростью проклинал врагов отечества, что четырнадцать его сограждан, внезапно преисполнившись древним и давно забытым воинским пылом, объявили о своей готовности отправиться на фронт добровольцами. После чего была устроена гигантская попойка, участники которой со слезами на глазах исполняли патриотические гимны всех времен начиная с эпохи борьбы за независимость. В тот вечер отец вернулся домой очень поздно. Возможно, он слишком много выпил или же успех окончательно вскружил ему голову, но только все эти изъявления патриотического восторга он воспринял чертовски серьезно. Не исключено, впрочем, что он искренне верил своим собственным декларациям. Во всяком случае, он поглядел на нас с таким презрением, что привычная ироническая улыбка застыла у нас на губах.
— Вы, мои законные сыновья! — яростно крикнул он. — Чего же вы ждете? Почему до сих пор не записались добровольцами?
Первым, по праву старшего сына, полагалось отвечать Томмазо. Он вышел вперед и объявил, что вполне удовлетворен своей теперешней жизнью и не намерен ее менять. Он привык считать, что первейшая обязанность отца — заботиться о благополучии своих сыновей. И если отец вопреки извечным законам природы готов послать собственных сыновей на верную гибель, то он, Томмазо, не забыл о своей обязанности любящего сына и предпочитает остаться дома, чтобы ухаживать за старой матерью.
Мы с Джованни без существенных дополнений повторили аргументы старшего брата.
Напрасно отец в приступе бешеной ярости проклинал нас и грозил лишить средств к существованию и даже будущего наследства. Вскоре от угроз он перешел к мольбам, но мы были непреклонны. А незадолго до полуночи, когда семейная драма достигла своего апогея, к нам в дом один за другим явились четырнадцать добровольцев и объявили, что передумали. Жены и матери, по их словам, остались недовольны тем, что некому будет работать в поле, и потому все они берут свое слово назад.