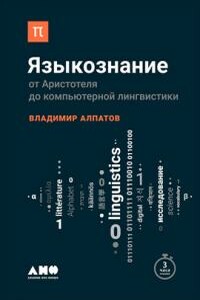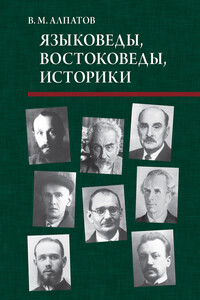Японские прогрессивные ученые считали, что тенденциозной трактовке важной проблемы японской истории должен быть Дан всенародный отпор. В связи с этим ряд номеров исторического журнала «Рэкисигаку кэнкю» были посвящены критике юбилея (см. [8, 1967, № 12; 1968, № 2, и др.]). Редколлегия журнала отмечала, чтс «нельзя ограничивать проблему „столе-: тия Мэйдзи исин“ только движением историков, нужно, чтобы широкие слои народа были вовлечены в эту политическую проблему» [9, 1967, № 11, с. 2].
Еще в 1966 г. японский историк К. Иноуэ в своей книге «Модернизация Японии и милитаризм» писал, что реакционная японская историография пытается окрасить в розовый цвет такие печальные факты японской истории, как война Японии Г осеней, аннексия Кореи, война на Тихом океане [3, с. 254].
В предисловии к этой книге он отмечал: «Если взглянуть на новую историю Японии, то в настоящее время ее изучение приобрело исключительно важный практический и политический смысл». Ученый связывает это с широкой правительственной подготовкой празднования столетия Мэйдзи исин, которое пре-тодпссилось как «годы славы» Японии. Напомнив, что бывший посол США в Японии Э. Рейшауэр всегда подчеркивал, что для молодых развивающихся стран нет лучшего примера для подражания, чем история модернизации Японии, К. Иноуэ заметил этому поводу: «Неизвестно, обратило ли японское правительство внимание на оценку Мэйдзи исин Рейшауэром, во всяком случае, между его теорией и идеологической кампанией в связи со столетием Мэйдзи исин чрезвычайно много общего» [3, с. 3].
Другой японский историк — С. Тояма, специалист по новой истории Японии, автор ряда трудов по истории Мэйдзи исин, выступил в июле 1965 г. с лекциями, которые легли в основу его книги «Мэйдзи исин и современность». Работа явилась итогом изучения Тояма проблемы Мэйдзи исин в послевоенный период. Это был ответ историка на американскую «теорию модернизации». Отмечая, что Мэйдзи исин явилась продуктом мировой истории, С. Тояма напоминает, что Япония сформировалась как капиталистическое государство именно в результате Мэйдзи исин. И когда Японию хотят представить в виде модели для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, стоит напомнить о роли, которую сыграл японский милитаризм в Восточной Азии, и о борьбе восточноазиатских народов против японского колониального порабощения [7, с. 43, 230–231].
О развертывании в Японии в настоящее время активной монархической пропаганды свидетельствует и принятие парламентом в 1979 г. закона о сохранении летосчисления по «гэнго» {«эрам правления») японских императоров («гэнго», система династийного летосчисления, ведет свое начало от времени правления императора Котоку, который назвал годы своего правления— 645–650 — эрой Тайка). Совершенно ясно, что это не просто выбор между двумя системами летосчисления — японской и европейской, цель этого закона — упрочить веру населения в незыблемость монархического строя Японии, представив историю страны как непрерывную династинную линию богом данных императоров.
Еще в 1976 г. группа прогрессивных японских историков выразила свой протест против введения летосчисления по системе «гэнго». В обращении, подписанном С. Иэнага, С. Тояма, К. Иноуэ, говорилось, что такая система летосчисления противоречит японской конституции [12, 10.11.1976].
Особенно активнее участие в насаждении среди населения националистической идеологии принимает синтоистское духовенство, этот идеологический оплот тэнноизма. Уже с конце 50-х годов члены правительства стали принимать участие в различных синтоистских обрядах и праздниках, лидеры правящей партии развернули движение за восстановление синтоизма в качестве государственной религии (см. [1, с. 151–163]. В 1978 г. в парламенте рассматривался законопроект, в соответствии с которым каждый премьер-министр получил бы возможность ежегодно 4 января совершать паломничество в наиболее знаменитый и почитаемый синтоистский храм Исэ для поклонения «священным дарам», по преданию переданным императору Дзимму прародительницей Аматэрасу. Все это можно было бы отнести к числу национальных традиций, если бы не острый идеологический акцент, усиленно навязываемый народу.