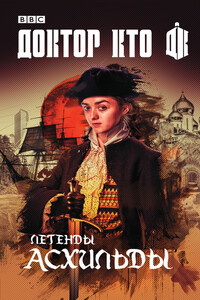В предпоследний день февраля мы «перевернулись» и стали играть за марку — доллар должен был вот-вот обрушиться.
На следующий день это и случилось, вызвав истерику по телевизору у многочисленных аналитиков, еще вчера предвещавших, что доллар продолжит укрепляться. Курс грохнулся сразу на двадцать пунктов, потом котировки развернулись и попытались восстановиться, но уже через неделю рухнули еще ниже! Сразу нашлись объяснения такому поведению валют, и те же самые аналитики, что неделю назад рассказывали всем, как выгодно вкладываться в доллар, наперебой стали советовать перекладываться в любую другую валюту. Начиналась биржевая паника.
Я с утра и до вечера пританцовывал, подсчитывая барыши.
8 марта, в пятницу, приехал Чарли. Разумеется, здесь этот день никто не отмечал, и мы с Захаром тоже не были исключением — международный женский праздник остался для нас в далеком прошлом, на другом континенте.
Мы немножко поболтали о том о сем, Сэм успел в очередной раз погрызться с Расселом на почве неверия в эффективность реформ президентской администрации, но не всерьез. Пропустили по стаканчику бурбона и сыграли в покер. Захар всех ободрал (я старался играть честно — не заглядывая ни в чьи карты) и разбогател на целых двести семнадцать долларов. Досадливо хлопнув ладошкой по столу, Сэм ушел смотреть телевизор — «Санта-Барбара» была бесконечна.
Отозвав меня в сторону, Чарли сделал заговорщицкое лицо и спросил:
— Как вы это сделали, парни?
— Что? — не очень понимая, о чем он, переспросил я на всякий случай.
— Я про Форекс говорю. Невозможно иметь такой инсайд! Я понимаю, что сейчас это была только проверка работоспособности схемы, и я со страхом смотрю в завтра — когда она заработает в полную силу! Кто стоит за вами на самом деле? Вы понимаете, что вот так можно запросто обрушить любую экономику?
Понимал ли я? У меня были хорошие учителя в будущем вроде Джорджа Сороса, его партнера Джима Роджерса или Ларри Уильямса. Я не стал говорить об этом вслух.
— Чарли, мы же не зря придумывали все эти хитрые ходы? — спросил я. — Нам вовсе не нужно обрушать чью-то экономику. Это не наша цель. Большие люди просто желают немного заработать. И, кстати, готовься ко второму этапу нашей операции — реинвестированию полученной прибыли в реальные производства. Начнем мы этим заниматься примерно через годик, но нужно заранее присмотреть способы — как это сделать. По-прежнему главные условия — конфиденциальность и безопасность.
— Сардж, — проникновенно заглянув в мои глаза, произнес Чарли, — скажи мне вот что: если я вложу в ваши ордера немного своих денег, наши хозяева не сильно расстроятся?
Я ждал подобного вопроса. Вернее, я бы не удивился, если бы он стал так делать, не известив нас, но, видимо, страх в нем был сильнее алчности — поэтому он и спросил. А скоро к его пухнущим депозитам начнут приглядываться и другие, и с этим нужно было что-то делать. Но запретить совсем я тоже не мог — он бы просто не стал меня слушать, ослепленный блеском пиастров, и тогда могло случиться все, что угодно.
— Нет, Чарли, — обнадежил я его, — им нет дела до того, как ты распорядишься своими доходами. Но не нужно злоупотреблять. Это может плохо кончиться.
Рассел оглянулся на Захара.
Майцев сидел за карточным столом и старательно делал вид, что не имеет к нашему разговору никакого отношения.
А в воскресенье умер Черненко, последний Генсек из «древних». Его похороны не были так пышны, как у Брежнева или Андропова, — все прошло как-то буднично и привычно. Сэм, посмотрев, как на CBS соловьем заливается Майк Уоллес, строя прогнозы о дальнейших отношениях Рейгана с Россией, напился нелюбимого бурбона и стрелял в ночное небо, надеясь сбить «все эти чертовы штуки, что подвесил там Ронни, чтобы разозлить русских». Ему не нравилась концепция «Звездных войн», придуманная в администрации сорокового президента. Сэмэль Батт считал, что эта доктрина не что иное как «способ загнать население в пожизненное рабство».
А у нас с Захаром состоялся напряженный разговор.
Когда дядюшка Сэм успокоился и уснул, мы с Захаром вышли на улицу, прибрали гильзы от Сэмова «Моссберга», разбросанные по всему двору, а потом, глядя в небо, Майцев вдруг сказал: