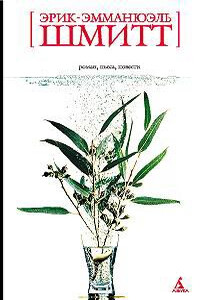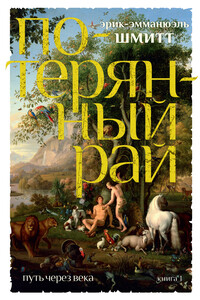Другая судьба - страница 66
Бернштейн и Нойманн разделяли его философию. Они погрузились в пучину фатализма. Будь что будет; они ничего больше не ждали. Отчаяние, да, но от надежды было бы еще больнее. Только с этим отчаянием, холодным, гибким, приспособленным, и можно было жить.
– Мимо.
– Жаль.
Накануне Адольф впервые поссорился с Бернштейном и Нойманном. И это на тот момент показалось ему страшнее, чем война.
Во время атаки Адольф взял пленного. Своего первого пленного. Девятнадцатилетний юноша упал перед ним на колени, и Адольф, не понимавший по-французски ни слова, все-таки уловил, что враг просит пощады. У Адольфа был выбор; он мог расстрелять его на месте. Но большая разница – стрелять в далекие тени и убить в упор человека, чьи глаза вас молят, чье живое дыхание мешается с вашим. Адольф сдался. Другой солдат на его месте, наверно, поступил бы так же, но по иной причине: за каждого пленного полагалась премия. Адольф же пощадил его, потому что артиллерист больше не представлял опасности, и на этом кончался его кодекс бойца.
Когда он привел пленного, все солдаты принялись осыпать его бранью, плевать, изливая на конкретное – наконец-то! – лицо свою ненависть к врагу. Парня осмеивали по всем статьям. За несколько минут из обычного человека он стал в глазах всех чудовищем.
Пришли Нойманн и Бернштейн и прибавили свои голоса к хору насмешек.
– Вы видели его рот? Маленький. Жестокий. Рот змеи, если бы у змей был рот.
– А штаны? Красненькие, наглаженные мамочкой. Как будет грустно мамочке узнать, что ее дорогой сыночек в плену у злых бошей.
– Только не вы! Нет! Умоляю вас: только не вы!
Адольф встал перед ними, возмущенный, расставив ноги, словно заслонял собой пленного.
– Нет, только не ты, Бернштейн. Только не ты, Нойманн. И вообще, вы можете говорить с ним по-французски, вы же знаете этот язык.
– Я больше не знаю французского. Я забыл французский двадцать восьмого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года.
Адольф был в ужасе. Война отнимала у него еще живых друзей.
Он сдал своего пленного с рук на руки офицеру. У дверей барака Бернштейн и Нойманн ждали его, чтобы оправдаться.
– Адольф, мы здесь подольше твоего и, поверь, побольше поняли.
– Ненависть и злоба необходимы.
– Надо стать овцой, Адольф, принять законы стада, поглупеть, иначе сойдешь с ума или дезертируешь.
– Нам теперь тоже нужны мысли самые низкие, самые пошлые, самые вульгарные. Иначе…
– Мне жаль, – ответил Адольф. – Я не могу смириться с тем, что война вас до такой степени изменила.
Бернштейн и Нойманн понурили голову, их смущенное молчание свидетельствовало о согласии с Адольфом. Но признать это…
Этой ночью трое друзей пошли в бой с неприятным осадком после ссоры, нарушившей их единство.
Над ними под градом снарядов обвалилась балка. Они под прицельным огнем. Надо бежать из окопа.
Они прыгают в соседнюю галерею.
Тоже завалена.
Они выскакивают из траншеи и бегут.
Взрыв. Вспышка. Свист.
На долю секунды Адольф видит летящий к нему осколок. Он чувствует острую боль в животе. Ему не верится. Он ощутил удар такой силы, что кажется, будто его разрубили пополам. Он продолжает бежать. Он добежит. Он не решается тронуть руками свой живот. Слишком страшно. Снова бежит. Набравшись духу, трогает себя руками. Куртка мокра. Кровь течет между пальцами. Приходится признать, что он ранен.
В эту минуту пуля попадает ему в бок. Странное дело, он успел отчетливо увидеть, как взлетел клок зеленого сукна.
Вспышка ослепляет его и лишает зрения.
Он пошатывается.
Падает.
Он мертв.
Песнь из глубины души взмывала к звездам. Дрожащие от волнения мужские голоса сами дивились своей мелодичности. Они забыли о криках – криках команд, криках страха, криках боли, – они заглушили все металлические звуки – выстрелы, взрывы, пальбу, канонаду, – они внезапно победили войну и, хрупкие, трепетные, сами не верили, что, став музыкой, обрели такую силу. Слова звучали на разных языках, но, умиротворяющим чудом музыки и большого числа,